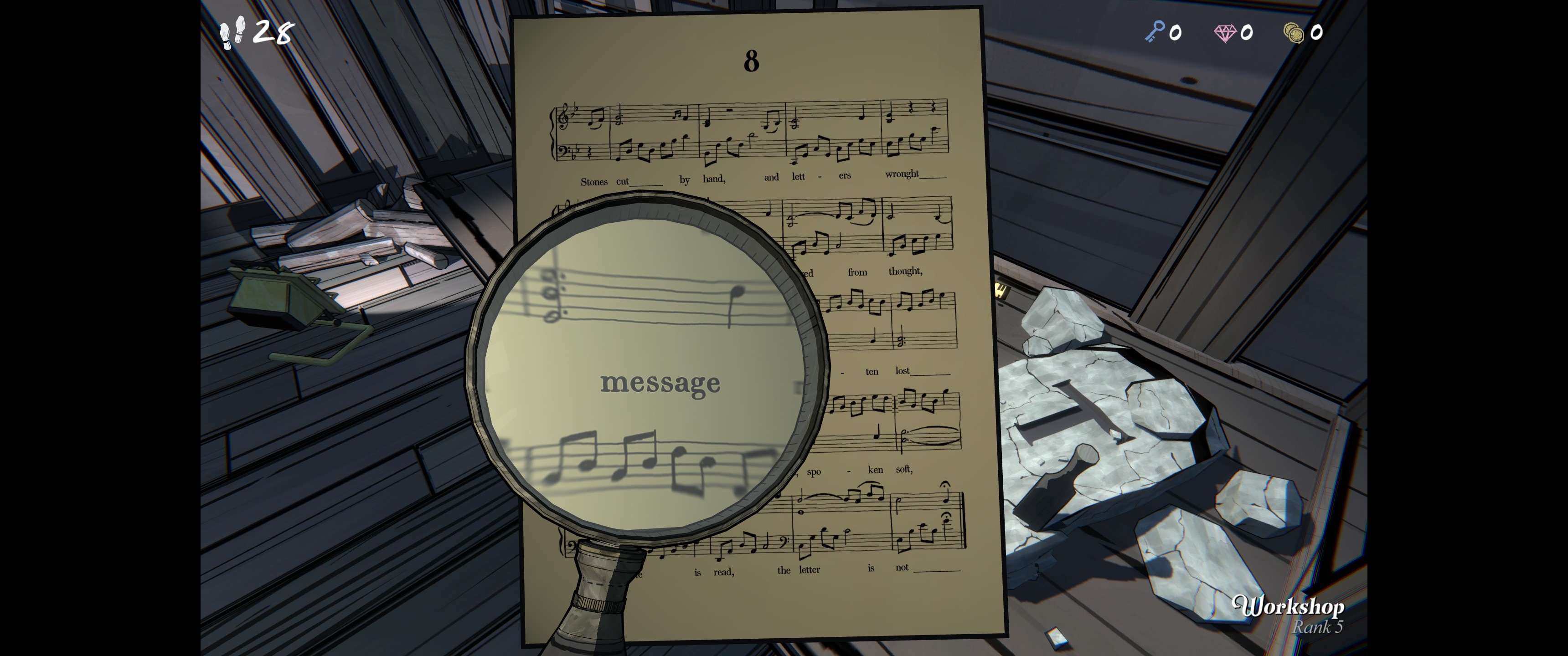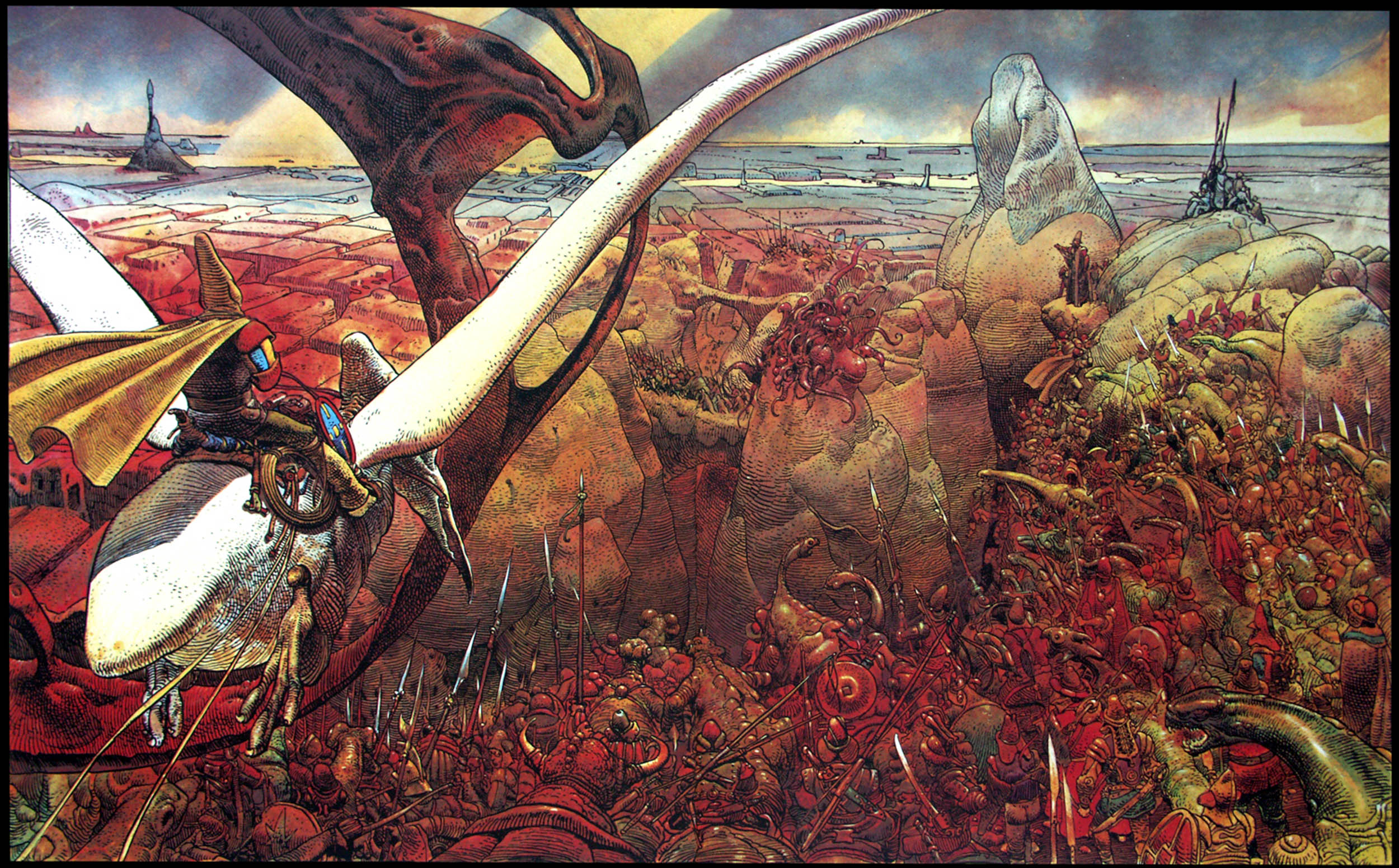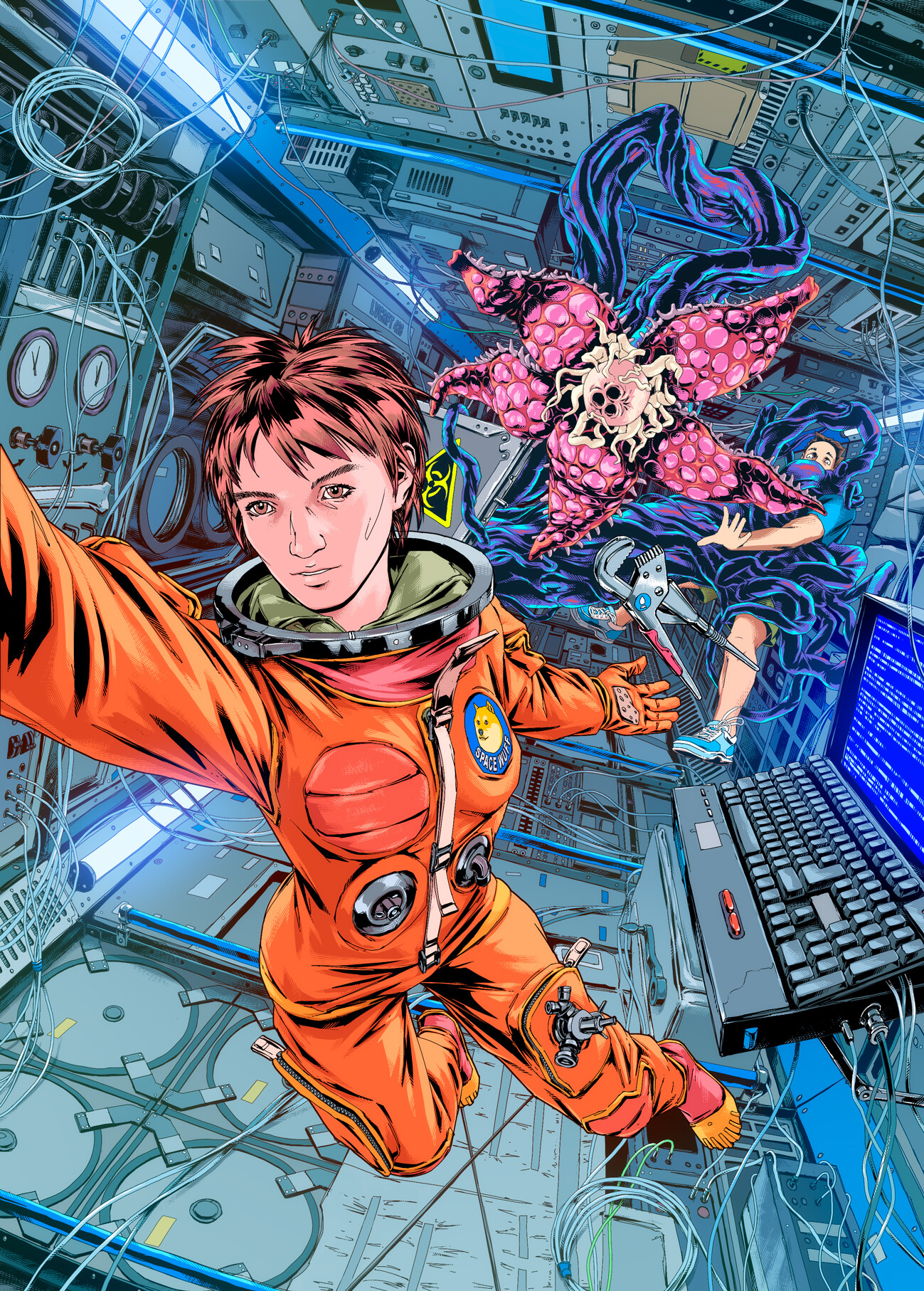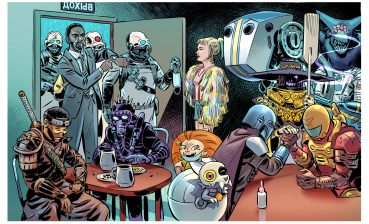Елена Кушнир «Письмо инопланетянам»
4665
29 минут на чтение
Предлагаем вам почитать весёлый рассказ из сборника «Реальные сказки». Ранее он публиковался в альманахе «Полдень. XXI век». Автор этого текста, Елена Кушнир, успела написать немало интересных статей для «Мира фантастики».
Рецензия на сборник
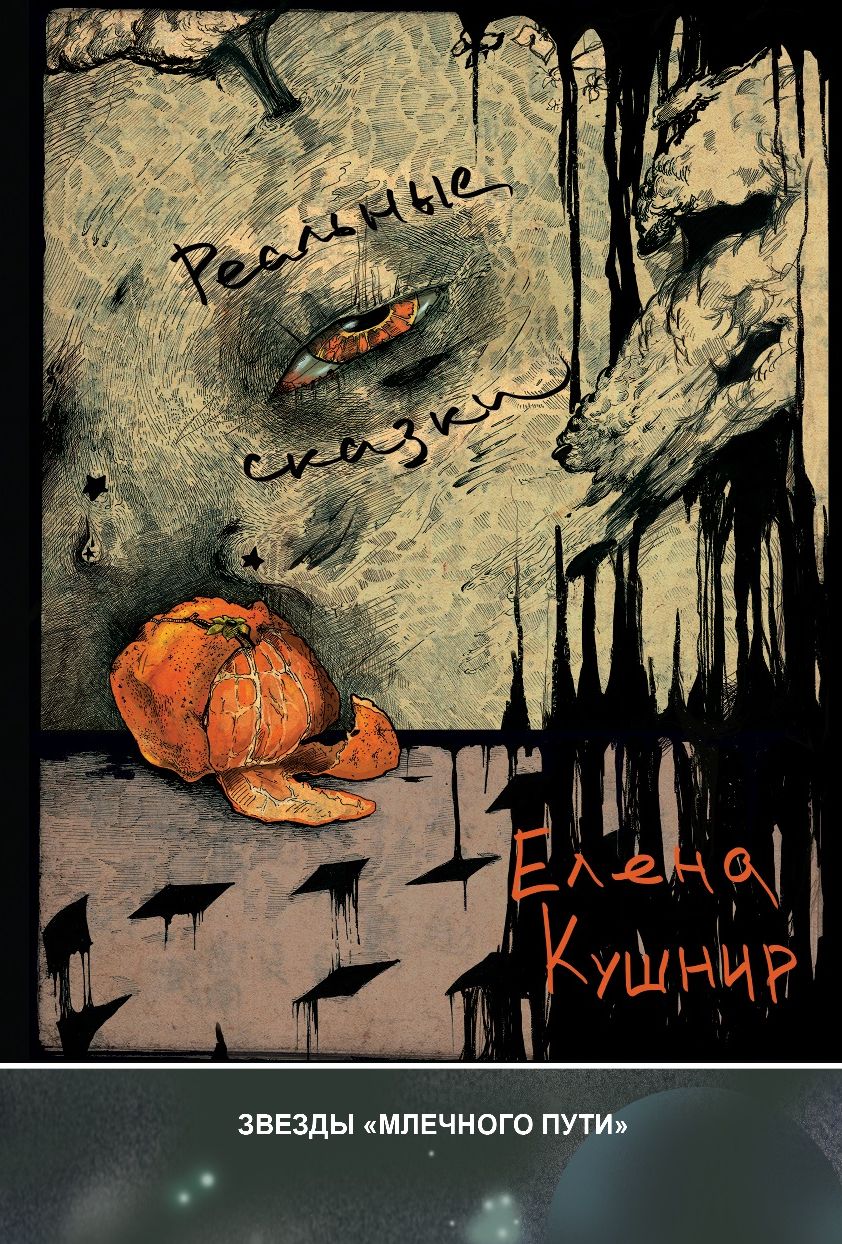
Елена Кушнир «Реальные сказки»
Александра Злотницкая
23.10.2016
8146
Отличная фантастика для тех, кто ценит хороший стиль, достоверность эмоций и ярких героев.
Николай Николаевич Подгорный был одним из самых скучных представителей не только планеты Земля, но и разумных существ во всех множественных вселенных вообще.
Николай Николаевич не верил ни в Бога, ни в чёрта, ни в Деда Мороза, ни в приметы. Верил он преимущественно в то, что дважды два равно четыре, а дважды четыре — восемь, как беспринципный Дон Жуан из пьесы французского классика Мольера.
Но, в отличие от аморального персонажа, Николай Николаевич не верил в сверхъестественные явления и таинственные сущности не из-за какого-то особого цинизма или презрения к людям, а лишь потому, что был напрочь лишён воображения и фантазии.
Даже в самом юном возрасте, когда иные дети предлагали поиграть в пиратов или, скажем, в «царя горы», маленький Коля не проявлял ни малейшего интереса к подобному времяпровождению.
— Я буду капитаном пиратского корабля! — восклицал самый бойкий из мальчишек.
— Но у тебя нет никакого корабля, — резонно возражал будущий Николай Николаевич. — И здесь не море, а обычный двор в центре города.
Дворовая ребятня его из-за этого недолюбливала, а иногда даже поколачивала, поскольку трудно выносить в своих рядах человека, который, желая раскрыть глаза общественности, неизменно предупреждал окружающих под Новый год, что подарки приносит не сказочный старик, а загримированный дядька из фирмы «Заря».
Даже собственные родители относились к своему рассудительному чаду с осторожным любопытством.
С одной стороны, ребёнок не доставлял никаких хлопот: не пытался убежать на Северный полюс или проникнуть на космодром, не таращился на уроках в окно с мечтательным видом и самостоятельно убирался в комнате, расставляя все вещи в идеальном порядке.
С другой стороны, было во всём этом что-то глубоко неправильное. Например, ещё в семилетнем возрасте Коля здорово напугал родную бабку, плюнувшую при виде чёрной кошки через левое плечо, когда произнёс серьёзным голосом опытного человека:
— Всё это суеверия и предрассудки.
Минули годы, Николай Николаевич прошёл земную жизнь до половины и отправился дальше, ничуть не изменившись с детских лет.
Трудился он бухгалтером в солидной конторе, ранее принадлежавшей государству, поэтому носившей сложносочинённое название из двадцати пяти символов, а затем перешедшей в частное владение, из-за чего название сократилось втрое.
На работе Николай Николаевич изводил окружающих адской скрупулёзностью.
Трудовые методы его во многом устарели, но начальство его ценило, рассматривая как своего рода талисман фирмы, такой надёжностью веяло от его сосредоточенно невозмутимого лица и фигуры, словно прижизненно изваянной в сером мраморе. Кроме того, у любого аудитора от общения с Николаем Николаевичем рано или поздно заходил ум за разум, в результате чего проверяющих приходилось отпаивать коньяком, и дела компании шли отлично.
Николай Николаевич всегда вставал рано утром в одно и то же время, будь то будни, выходные, праздник или отпуск, и делал рекомендованное специалистами количество приседаний, отжиманий и прыжков для сохранения бодрости тела. Носил он один и тот же немаркий костюм, покрой которого не менялся последние тридцать лет. Вернее, костюм был не один — имелось четыре его клонированных образца, сопровождавшихся в носке неизменной белой сорочкой и мышиным галстуком. Квадратные очки дополняли ансамбль. Всё это вместе придавало Николаю Николаевичу припорошенный пылью вид, как будто его достали из старого шкафа.
Он редко бывал в гостях, не слишком интересовался достижениями культурной жизни, скептически относился к кинематографу и даже к художественной литературе, а отдыхать ездил к двоюродной сестре Нюсе в тишайший провинциальный городок размером с пуговицу, в котором самым громким из происшествий считался крупный пожар 1899 года.
Не то чтобы Николай Николаевич не мог позволить себе поездок, скажем, за границу. Просто ни золочёное кружево Венеции, ни романтический флёр Парижа, ни кофейный уют белокурой Вены, ни разноцветный калейдоскоп тропических островов не манили его. Любопытен был разве что Нью-Йорк, про который Николай Николаевич слышал, что город поражает идеальной симметрией и правильностью линий, но и туда он ехать не стремился. Поездка означала бы нарушение сложившегося распорядка жизни и несла в себе элемент непредсказуемости. Это уже попахивало авантюризмом, а никаких авантюр Николай Николаевич допустить не мог.
В один тихий и спокойный вечер, когда, неспешно листая журнал для бухгалтеров, он уже подумывал об отходе ко сну, в дверь неожиданно позвонили.
Неожиданно — это ещё мягко сказано.
Николай Николаевич не то что никого, особенно в такой неурочный час, не ждал, но даже и представить себе не мог, чтобы кто-то осмелился к нему заявиться, если только с сообщением, что дом горит, а ещё лучше — догорает.
Поэтому в первые секунды в трель звонка он не поверил, подумав, что, возможно, звонят соседям по лестничной площадке, а до него доносятся отголоски. Однако звонок не унимался.
Нахмурившись, Николай Николаевич отправился посмотреть, кто же так настойчиво пытается вторгнуться в его квартиру. Едва он бросил взгляд в дверной глазок, как на лестничной площадке раздался громкий и неприлично для такого позднего часа жизнерадостный голос:
— Дядя Коля, это я, Гена! Только что с вокзала! Откройте.
Дверной глазок подтвердил информацию. Показавшиеся в нём рыжие лохмы и усеянное веснушками лицо с выдающимся носом действительно принадлежали племяннику Геннадию, сыну той самой сестры из провинциального городка.
Изумлённый Николай Николаевич, который никак не ждал визита родственников, открыл дверь, опасаясь худшего.
И с первой же минуты, как племянник показался на пороге, стало понятно: привычной размеренной жизни пришёл конец.
Едва ступив в коридор, племянник оккупировал его целиком и полностью. И не потому, что был толстый или притащил с собой двадцать два чемодана (правда, за спиной у него виднелся рюкзак размером с холодильник), а потому, что есть такие люди, которые отличаются способностью заполнять собой все вокруг.
От Геннадия пахло дешёвым одеколоном, поездом и энтузиазмом. Его огненно-рыжие торчащие волосы на фоне неброских интерьеров квартиры смотрелись как материализовавшаяся на гумусовом горизонте тыква. Его зычный голос вполне мог бы позаимствовать архангел для какого-нибудь важного дела. Его руки и ноги были такими большими и длинными, что дядя почувствовал себя лилипутом, наткнувшимся на Гулливера.
Да, Геннадия было много, много даже для обычного человека.
Что до Николая Николаевича, тот и вовсе задышал часто-часто и отправился на кухню накапать валокордину, пока племянник в коридоре скидывал рюкзак, снимал верхнюю одежду и расшнуровывал свои огромные ботинки, каждым из которых можно было бы обратить в бегство небольшую армию.
— Вы извините, что я вот так без предупреждения, — говорил Гена некоторое время спустя, сидя в кухне на слишком хрупкой для него деревянной табуретке и покачивая ногой в пахучем носке, — спонтанно всё получилось.
Не одобрявший спонтанность Николай Николаевич сурово сдвинул брови:
— Как же так? Нельзя принимать серьёзные решения ни с того ни с сего. Всё в жизни нужно хорошенько обдумывать, прежде чем начинать действовать по намеченному плану.
— Я-то как раз давно обдумал, — возразил Гена. — Ещё в восьмом классе всё решил.
— Что решил? — удивился Николай Николаевич.
Он-то считал, что речь идёт о неожиданной поездке к нему в гости.
— Так в театральное же поступать, — объяснил племянник и шумно хлебнул чаю. — Вам мама разве не говорила?
Николай Николаевич порылся в памяти и действительно припомнил, как сестра упоминала что-то подобное. Но ему и в голову не пришло бы, что племянник, который всегда хорошо учился и даже подавал по некоторым предметам надежды, зайдёт так далеко в своих смешных фантазиях.
— В общем, я ей так и сказал: «Буду актёром!». А она — в крик, — продолжил Гена. — Говорит, несерьёзно всё это, на жизнь не заработаешь. Иди вон лучше бухгалтером становись, как дядя Коля. Ну, слово за слово, мы и поссорились. Я вещички покидал и сел на первый же поезд. Всё равно у нас в городе театрального института нет, так что я бы к вам в любом случае приехал, только через пару месяцев, ближе к экзаменам.
— Ты это брось! — Николай Николаевич даже побагровел от возмущения. — Актёром он решил, видите ли, стать! Мать твоя, конечно, права. Все это совершенно несерьёзно и безответственно, даже думать о такой ерунде не смей. Человеку в жизни настоящая профессия нужна, а не какая-нибудь фитюлька.
— Какая же это фитюлька? — возмутился в свою очередь Геннадий. — Мало ли разве великих актёров, которых все обожают и уважают?
— И ты, кажется, надеешься одним из них стать? — презрительно хмыкнул Николай Николаевич.
— А почему бы и нет? — парировал Гена. — Я, между прочим, в нашем школьном театре уже играл. И Сирано де Бержерака, и Гамлета, и Треплева. Даже Ромео играл, когда Васька Фролов руку сломал! И декламировать могу, вот послушайте: «И примешь ты смерть от коня своего!» И пою, и танцую. Хотите, станцую вам прямо сейчас?
— Боже упаси! — испугался Николай Николаевич.
Образ племянника, топающего своими ножищами на кухне в первом часу ночи, взволновал его до глубины души.
Спорили долго.
Тоскливо поглядывающий на часы Николай Николаевич думал о том, что режим дня летит ко всем чертям, но всё пытался переубедить племянника не губить молодую жизнь на неверной актёрской стезе.
Племянник, однако, был непреклонен и не желал ни возвращаться в родные пенаты, ни посвящать себя другой профессии.
Ни на чём не сойдясь, отправились спать.
В квартире Николая Николаевича имелось две комнаты. Он постелил племяннику на диване в гостиной, тот лёг и чуть ли ни в ту же секунду гулко захрапел. А Николай Николаевич лишь под утро забылся тревожным сном, в котором видел страшное. Его квартира превратилась в театр, на сцене возвышался, позируя на диване в эффектной позе, Геннадий, который с силой тряс черепом коня вещего Олега, как магическим шаром, сдвигал брови и громко интересовался у черепа:
— Быть иль не быть?!
«Не быть!» — попытался было крикнуть Николай Николаевич, но был заглушён рёвом аплодисментов. Словно из тумана, выплыло скорбное лицо сестры Нюси, бросившей ему печальный упрёк:
— Не уследил! Проворонил!
Он хотел объяснить, что сделал для племянника всё, что мог, но Нюся превратилась в большую чёрную ворону и принялась зловеще каркать.
— Кар-кар, кар-ррр! — слушал Николай Николаевич, пока не сообразил, что это рычит над ухом будильник.
Он проснулся в поту, чувствуя себя невыспавшимся и вялым. Нужно было подняться и приступить к утренней гимнастике, но тело предательски требовало валяться и дальше в уютной постели вопреки заведённому порядку.
— Началось, — резюмировал Николай Николаевич мрачно.
Он всё же заставил себя встать, неохотно сделал несколько упражнений и отправился умыться.
Ванная была занята. Племянник стоял под душем, радостно сообщая миру что-то из классиков:
— Да, и томлюсь тоскою по любви!
Томимый другой тоскою Николай Николаевич поплёлся на кухню готовить завтрак.
К счастью, был выходной, и можно было не торопиться на работу, а сесть и подумать, как же теперь быть.
Завёрнутый в одно полотенце, из душа вывалился красный и распаренный Генка. Энергетические волны от его молодого, пышущего здоровьем организма расходились по кухне жаркими кругами.
— Доброе утро! — провозгласил племянник.
— Доброе, — буркнул Николай Николаевич и почувствовал, что злится на Гену за один факт его существования. — Ну что, не передумал за ночь глупостями заниматься?
— Ничего это не глупости, — ответил племянник уязвлённым тоном и щедро плеснул кипятка в кружку с заваркой.
— Я надеялся, может, ты образумишься, — вздохнул Николай Николаевич. — Разве ты не понимаешь, что актёрская профессия — одна из самых непостоянных в мире? Ладно, допустим, у тебя талант. Разве все талантливые актёры добиваются успеха? Возьмём, к примеру, Ван Гога…
— Это художник, — напомнил Гена.
— Я в курсе, — обиделся Николай Николаевич. — Не в этом суть, художник или актёр. А в том, что даже гениальный мастер может оказаться непонятным своими современниками. Никто его картины покупать не хотел, и в результате что? Нищета, ухо…
— Но со мной-то такого не произойдёт! — забурлил Гена. — Кстати, я ушами шевелить умею. Хотите, покажу?
— Покажи, — обречённо согласился Николай Николаевич.
Геннадий показал.
— Ты думаешь, умение шевелить ушами — это гарантия славы?
— Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца, — начала было с выражением читать будущая театральная звезда, но была жёстко пресечена.
— Сможешь ли ты найти работу? Сколько будешь зарабатывать? Да и поступишь ли вообще в свой театральный? — атаковал вопросами Николай Николаевич. — Ни определённости, ни стабильности, ни уверенности в завтрашнем дне! Человеку нужен крепкий рубль, а не с копейки на копейку перебиваться.
— Но, дядя Коля, это же моя мечта, — вдруг сказал Генка совершенно серьёзно. — Разве может человек бросить свою мечту, даже не попробовав её осуществить? Неужели вы никогда не мечтали и не пытались добиться того, чего вам больше всего на свете хотелось?
И, глядя в его широко распахнутые, горящие молодым огнём глаза, Николай Николаевич вдруг понял, что никакими разговорами и доводами рассудка племянника не переубедить.
Так началась совсем другая жизнь.
Присутствие Гены в доме изменило всё. Каким-то неведомым образом краски, расцвечивающие немаркие обои и неброскую мебель, начали казаться ярче. В комнатах было светлее обычного, и в воздухе, даже когда племянника не было в квартире, беспрестанно звучал какой-то странный шумок, будто кто-то всё время напевал себе под нос или насвистывал.
Геннадий довольно быстро нашёл себе какую-то временную работу — то ли официантом в ресторане, то ли охранником в банке. Бросил он эту информацию столь небрежно, что Николай Николаевич так и не понял, куда же пошёл трудиться племянник, чьи возвышенные мысли были равно далеки и от ресторанов, и от банков. Работал он через день, а в свободное время посещал курсы при театральном институте и возвращался оттуда, палимый творческим огнём и адски голодный. Творческий огонь требовал серьёзной подпитки — пельменей, наваристого борща, котлет. Утоляя голод, Гена развлекал дядю декламацией и рассказами о системе Станиславского, и тому оставалось лишь ностальгически вспоминать прежние упоительно тихие вечера, не обременённые необходимостью слушать монолог Чацкого и чистить в огромных количествах свёклу, чтобы наваренного борща хватало на двоих.
По правде сказать, он бы выпер племянника из своей квартиры к лешему, но не мог так поступить по отношению к сестре Нюсе, которая постоянно названивала и, рыдая в трубку, просила приглядеть за мальчиком, раз уж тот пошёл по кривой актёрской дорожке.
Так и жили: племянник следовал по дороге своей мечты, дядя обеспечивал продовольствием и внимал монологам.
Однажды вечером Николай Николаевич, вернувшись домой после традиционной пятничной игры в преферанс с давним приятелем, застал Геннадия в квартире не одного.
Войдя в кухню, он увидел сидящего за столом племянника, который гневно вопрошал торчащий из стеклянной банки букет разноцветных цветов: «Работать? Для чего? Чтобы быть сытым?», после чего сардонически захохотал.
Не успел Николай Николаевич изумиться тому, что Генка, вероятно, обезумев на почве актёрства, принялся разговаривать с цветами в банках, да ещё и выражать при этом какие-то антиобщественные настроения, как откуда-то из-за букета громко захлопали и тоненький голосок восторженно пропищал:
— Браво, Геночка, браво! У тебя получается самый лучший Сатин из всей нашей группы.
Генка довольно заурчал.
— Добрый вечер, — осторожно дал знать о себе Николай Николаевич.
— Дядя Коля! — радостно воскликнул племянник. — Как хорошо, что вы пришли, я тут как раз декламирую. Знакомьтесь, это Зина, тоже будет вместе со мной в театральный поступать.
И ткнул пальцем в букет. Цветы раздвинулись, и из-за них показалась юная особа с белыми круглыми кудряшками на круглой голове, с круглыми же небесно-голубыми глазами под кукольными ресницами и со вздёрнутым носом.
— Здравствуйте! — розовея, пискнула она, выбралась из-за стола и застенчиво стала рядом с Геной. — Мы с Геночкой в одной группе учимся.
Кукольная Зина была ростом примерно Гене по пояс и вообще смотрелась рядом с ним как совершеннейший ребёнок, чем невольно вызвала у Николая Николаевича чувство умиления пополам с жестоким раздражением в преддверии перспективы чистить ещё больше свёклы для борща, если эта самая Зина начнёт у них столоваться по вечерам после занятий на курсах.
К счастью, всё оказалось не так уж плохо. Зина вызвалась приготовить ужин, пока Гена рассказывал, как они начали репетировать на занятиях пьесу Горького «На дне», монолог из которой он читал. Вскоре Зина водрузила на стол омлет с помидорами, жареные сосиски, порезанный хлеб с маслом, и все сели ужинать.
Во время ужина Николай Николаевич почти с неохотой ощущал, что ему нравится сидеть вот так с молодёжью, слушать об их делах и поглощать вкусную еду. За чаем с шоколадными конфетами он окончательно расслабился и даже признался, что не всегда мечтал в своей жизни быть бухгалтером.
— А кем же? — спросила Зина, широко распахивая глаза и перемазанный шоколадом рот.
Николай Николаевич почувствовал, что от него ждут грандиозного признания вроде: «Я всегда хотел быть пиратом», и засмущался.
— Стоматологом, — вздохнул он. — Но как-то не сложилось.
— Скучные все какие-то профессии, — ляпнул Генка бестактно.
Николай Николаевич обиделся и попытался удалиться, но Зиночка уговорила его остаться, а Гену пристыдила. Была она при этом так мила, что любое сердце возрадовалось бы.
Дальше говорили что-то об интересных профессиях, любви, мечтах и прочем, что интересует молодых. Все ещё не одобряющий мечтаний, Николай Николаевич в основном помалкивал и слушал, но потом, когда Зина с Генкой и букетом ушли, а сам он отправился ко сну, задумался. А была ли и, правда, в череде его дней хоть какая-то мечта, или так он и прожил спокойно, безмятежно, распланировано и… скучно?
Никогда раньше Николай Николаевич не назвал бы свою жизнь скучной. Но сейчас энергичный и вдохновлённый племянник, романтичная Зиночка, их, пусть наивные, но такие горячие надежды что-то разбередили в душе.
И тогда Николай Николаевич вспомнил.
Вспомнил то, что давно уже не разрешал себе вспоминать.
В его жизни была мечта.
Вряд ли кто-то назвал бы её дерзкой, а её исполнение не привело бы, например, к изобретению лекарства от страшной болезни. Но много лет назад ему казалось, что нет на свете ничего смелее, невероятнее и прекраснее его мечты.
— Звали её Лиза Протопопова, — прошептал Николай Николаевич в темноту.
Её папа был военным, поэтому семейство Лизы всё время кочевало, и вот, наконец, судьба занесла их в его город. Учились они вместе недолго, но ему не нужно было много времени, чтобы влюбиться. Хватило секунд пять или три, он точно не помнил.
Кажется, всё дело было в её ушах. Юный Коля посмотрел, как изящно они прилеплены к Лизиной головке так, что почти даже не торчат, и понял, что пропал навеки.
Лиза танцевала в известном детско-юношеском ансамбле, который ездил за границу и на выступления которого она доставала всему классу пригласительные билеты. Она была тоненькая-тоненькая, словно нарисованная тушью, и, ступая, не оставляла на земле следов. Мама Лизы была художником-модельером и шила дочери такие платья, которые в те времена можно было увидеть разве что в западном кино.
Лиза была принцессой, за которой бегали все мальчишки, включая Юрку Дербенева — красавца и спортсмена-пловца, имевшего разряд, и, глядя на то, как после уроков Юрка выступает рядом с Лизой, гордо неся её портфель, Коля чувствовал себя серым мухомором.
Именно тогда он первый и последний раз в своей жизни принялся мечтать. О том, как на Лизу нападут бандиты и он её спасёт. О том, что Юрка покроется с ног до головы прыщами. О том, как прилетит инопланетный корабль, чтобы установить связь с собратьями по разуму, и выберет его, Колю, представителем планеты Земля. И, конечно, о том, как его постигнет ранняя смерть, и, плача на скромной могилке, Лиза поймёт, что любила всё это время его — неприметного мальчишку, вечно поглядывающего на неё исподтишка и одолжившего ей однажды на черчении циркуль.
Но ничего этого не происходило.
На выпускной вечер Лиза пришла в платье, сделанном из чего-то, похожего на облако золотых лепестков, и танцевала с Юркой. Коля некоторое время смотрел на них, как загипнотизированный, а потом ушёл из актового зала на улицу, где примкнул к прятавшейся в кустах компании хулиганья.
Там он единственный раз в своей жизни напился и даже выкурил сигарету, а потом отправился гулять по городу, надеясь попасть под трамвай. При виде трамвая, впрочем, передумал, а залез вместо этого в чей-то чужой сад и нарвал там охапку сирени размером с себя. После этого направился к дому Лизы, чья квартира располагалась на первом этаже. Окно в её комнату было распахнуто, Коля подтянулся на руках на подоконнике и за что-то зацепился, порвав свою нарядную голубую рубашку, которую сшила мать. Он швырнул сирень внутрь, как оружие массового поражения, и убежал.
Он бежал по городу к себе домой и, к величайшему стыду своему, плакал и ожесточённо тёр лицо кулаками, зная, что никогда в жизни больше не будет несчастнее и счастливее, чем сейчас…
Николай Николаевич открыл глаза, чувствуя, как они увлажнились.
Ему стало неловко.
— Глупость какая, — раздосадовано пробормотал он. — Ну, учились вместе. К чему эти воспоминания? Она давно замужем, у неё дети, может, внуки… Все это абсолютно нецелесообразно.
Робко скрипнула в коридоре дверь, а затем бессовестно загрохотали тяжёлые ботинки — вернулся племянник. Николай Николаевич вспомнил голубые глаза Зиночки и тот восторг, с которым она смотрела на Генку, и ему стало завидно и грустно.
— Что уж теперь, ничего не воротишь, — сказал он, злясь на самого себя. — Вот куда приводят все эти фантазии, мечтания… Одна бессонница и томление от них.
Он немного поворочался с боку на бок и постепенно задремал.
Разбудил его даже не шум, а некое преддверие шума.
С трудом разлепив глаза, первые несколько секунд пробуждения Николай Николаевич был уверен, будто кто-то позвал его по имени. Он прислушался, но больше ничего не услышал. Тем не менее им овладело стойкое ощущение, что в квартире что-то происходит. Он полежал пару минут в кровати, чувствуя нарастающее напряжение, и понял, что уже не сможет спокойно уснуть.
Не до конца понимая, что же следует делать, Николай Николаевич поднялся с постели, накинул халат и осторожно вышел из комнаты. В коридоре ощущение странности усилилось. В воздухе звенела абсолютная тишина. Не просто та, что бывает ночью, а такая, будто звук выключили во всём мире, и лишь какой-то тревожный то ли шёпот, то ли гул вился в воздухе.
К своему неудовольствию, Николай Николаевич ощутил страх, но довольно быстро с ним справился. В конце концов, бояться было абсолютно бессмысленно.
Собравшись с духом, кашлянув несколько раз для храбрости и посильнее затянув пояс халата, он направил стопы в кухню, догадываясь, что именно там находится источник всех странных ощущений.
Едва сделав шаг, он увидел напротив окна залитый желтоватым фонарным светом силуэт и на мгновение поддался неконтролируемой панике того рода, что за долю секунды иссушает горло до состояния пустыни Сахары и заставляет вопить: «Мама, караул, грабят, пожар, милиция!» в одно слово.
Но Николай Николаевич был, позволим себе напомнить, человеком без воображения и фантазии, а ведь именно они создают питательную среду для страхов. Без них остаются лишь страхи, заложенные в человеке на уровне животных инстинктов и требующие соответственных действий, как то: схватить стоящую на плите сковородку и опустить её на неопознанную голову, нагло торчащую в чужой кухне в совершенно возмутительный час.
Что Николай Николаевич и сделал.
И тут произошло сразу несколько событий.
Включился свет, незнакомец каким-то образом переместился за спину Николаю Николаевичу, чья рука, не найдя постороннюю голову на прежнем месте, выронила сковородку, упавшую на пол с таким выдающимся грохотом, что было жаль, что никто этот звук не записал и не использовал потом в кино.
Пока Николай Николаевич пытался прийти в себя, незнакомец вновь очутился на фоне окна и произнёс:
— Прошу вас, не бойтесь. Добрый вечер.
Изумлённый Николай Николаевич уставился на него во все глаза и принялся рассматривать.
Незнакомец был высок ростом, широкоплеч, статен и облачён в тёмный строгий костюм. Голова была лысой, а черты лица можно было счесть даже привлекательными, если бы они не казались слишком уж резко обозначенными и неподвижными, как у манекена в витрине. А ещё у него было что-то с глазами, но что именно, Николай Николаевич не смог разглядеть.
— Не бойтесь, — повторил незваный гость. — Я не причиню вам никакого вреда, ущерба, порчи.
Голос его прозвучал негромко и успокаивающе, но что-то в произнесении этих слов было неправильным. Через пару мгновений Николай Николаевич понял, в чём дело: губы незнакомца не двигались.
Пустыня Сахара вернулась в горло, и неприятно засосало под ложечкой.
— А я и не боюсь, — тем не менее храбро соврал Николай Николаевич. — Потрудитесь объяснить, кто вы такой и что делаете на моей кухне в ночное время?
— Прежде всего, я вынужден попросить прощения за то, что напугал вас тем, что появился, возник перед глазами, показался, — изрёк странный визитёр. — И позволю себе напомнить, что с моей стороны вам не грозит ничего плохого, дурного, отрицательного.
Говорил незнакомец диковинно, будто цитировал толковый словарь, перечисляя синонимы. Это каким-то образом снизило градус тревожности.
— Что ж, я рад, но по-прежнему прошу вас объясниться, кто вы такой и что здесь делаете? — спросил Николай Николаевич увереннее.
— Я представитель внеземной цивилизации, прибывший к вам с дружественным визитом, — произнёс ночной гость всё тем же приятным спокойным голосом.
— Да что вы говорите, — съязвил Николай Николаевич. — А я фараон Рамзес Второй, приятно познакомиться.
— По нашим данным — нет, — невозмутимо ответил незнакомец. — Вы Николай Николаевич Подгорный, 1953 года рождения, появившийся на свет в этом городе и проживший здесь всю жизнь. Текущее место работы…
— Вон отсюда, — потребовал Николай Николаевич.
— Прошу прощения?
— Пошли вон с моей кухни! Требую от вас немедленно удалиться, исчезнуть с глаз моих, провалиться под землю! — завопил «фараон Рамзес». — Не знаю, кто вы, но я не желаю принимать участие в дурацких розыгрышах, на которые вас, видимо, подбил мой бестолковый племянник!
— Звали её Лиза Протопопова.
Произнесённые слова словно вытеснили из кухни весь воздух.
От удивления Николай Николаевич распахнул рот и уставился на визитёра. Тот смотрел на него в упор, не мигая. В его глазах не оказалось ни радужки, ни зрачка, они были похожи на стёкла аквариума, в котором ничего не плавало.
— Что? — пролепетал Николай Николаевич.
— Мы за вами наблюдали.
— Зачем?
— Я представитель внеземной цивилизации, прибывший к вам с дружественным визитом, — повторил незнакомец. — Мы ищем людей, которые могли бы стать нашими проводниками в ваш мир.
— Проводниками? — окончательно растерялся Николай Николаевич. — Что это значит?
Визитёр, казалось, задумался. Во всяком случае, его неподвижное лицо подёрнулось, как будто помехи побежали по экрану.
— Этому сложно найти объяснение в вашем языке, — наконец, ответил он. — Можно сказать, это те люди, через чьё сознание нам удастся лучше понять человечество.
— Зачем вам это нужно?
— Это нужно вам.
— И зачем это нужно нам?
«Представитель внеземной цивилизации» вновь помедлил с ответом.
— Это потребуется вашим потомкам. Однажды нам придётся вмешаться в ход человеческой истории, чтобы помочь людям. К этому моменту мы должны будем понимать вас досконально, чтобы не причинить вреда, ущерба, порчи.
Всё происходящее было абсурдно, дико и совершенно неправдоподобно. У Николая Николаевича закружилась голова.
— Уф, — выдохнул он и налил себе воды из графина, тяжело опустившись на табурет. — Послушайте, вы… Как ваше имя-отчество?
— Моё имя покажется вам бессмысленным набором звуков, — ответствовал визитёр.
Николаю Николаевичу захотелось кинуть в него тапком.
— Хорошо, допустим, это не чья-то глупая шутка и вы действительно тот, за кого себя выдаёте, — сказал он, сам себе не веря. — Но от меня-то вам что требуется?
— Мы хотим, чтобы вы стали проводником.
— Почему именно я?
— Мы считаем, что вы обладаете подходящими качествами, свойствами, характеристиками.
— Какими же это? — Николай Николаевич начал всерьёз раздражаться. — И почему у вас такая своеобразная манера изъясняться?
— Нас интересует ваше личное мировосприятие. И мы пока не разработали адекватную систему сравнительной лингвистики.
— А по-моему, вы просто издеваетесь, — буркнул Николай Николаевич.
— Простите?
— Вы прилетели на космическом корабле? На летающей тарелке? Где она сейчас находится? Как называется ваша планета? С какой стати вы собираетесь спасать человечество? Каким образом вы нам будете помогать? Чем конкретно я вас заинтересовал в своём восприятии? Давно ли вы наблюдаете за мной? Откуда знаете о… Хотя не важно, — Николай Николаевич поднялся с табуретки. — Я вам не верю и хочу, чтобы вы отсюда ушли. Иначе я вызову милицию.
— Хорошо, я выполню вашу просьбу, — сказал визитёр, не меняя бесстрастного тона. — Проводник должен сотрудничать с нами на добрых началах, иначе невозможно установление контакта. Я не могу вас заставить поверить мне, поэтому уйду.
— Вот и прекрасно.
— Но позвольте попробовать убедить вас в том, что всё это не шутка.
— Не позволю!
— Мы можем выполнить одно ваше желание.
— Почему не три? — осведомился Николай Николаевич ехидно. — В сказках обычно бывает три желания.
— Всего одно…
— Меня это нисколько не интересует!
— Вы должны будете написать письмо и положить его в камеру хранения под номером 234 на вокзале. Обязательной успейте сделать это до двенадцати часов сегодняшнего дня, в противном случае…
— Не желаю ничего слушать! — Николай Николаевич грозно стукнул кулаком по кухонному столу, покрытому красной в белый горох клеёнкой. — Какое ещё письмо? На деревню дедушке? И непременно должен успеть до двенадцати часов? А что будет, если не успею, ваш космический корабль превратится в тыкву? Убирайтесь, чтобы духу вашего здесь не было!
Он отважно надвинулся на визитёра, испуганно недоумевая, почему племянник до сих пор не проснулся, и от всей души сожалея, что могучий Генка дрыхнет и вряд ли придёт на помощь, окажи ночной гость сопротивление.
Но гость сопротивления не оказал, а лишь отступил к окну, застыв на тёмном фоне элегантно очерченным силуэтом.
— Прошу вас выйти, — сказал он. — Иначе мне будет проблематично удалиться, так как зрелище моего исчезновения может лишить вас зрения, привести к слепоте, спровоцировать нарушение работы оптического нерва.
— Боитесь, что я могу подглядеть, как посланник внеземных цивилизаций сигает в окно? — фыркнул Николай Николаевич. — Скажите спасибо, что мы на втором этаже. Хорошо, я ухожу ровно на минуту. Если к моему возвращению вы здесь по-прежнему будете околачиваться, пеняйте на себя.
— Вы запомнили номер камеры хранения?
— Всего хорошего, — проскрежетал Николай Николаевич и вышел из кухни, хлопнув за спиной дверью с такой яростью, что с потолка мелкой перхотью посыпалась штукатурка.
Он топтался в коридоре несколько минут и не извергал из ноздрей яростный огонь лишь потому, что не был способен к этому физиологически. В груди клокотал гнев, и вместе с тем Николая Николаевича обуревала странная растерянность, причина которой не была ему до конца ясна.
Ни в каких инопланетян он, разумеется, не верил. Всё случившееся могло быть лишь глупым представлением, либо диковинной хитрой аферой, рассчитанной на легковерных простаков, к числу которых он себя, разумеется, не относил. Что же тогда помешало ему позвать на помощь в первый же миг обнаружения в доме постороннего? Почему он позволил вовлечь себя в диалог? В конце концов, мошенник мог быть по-настоящему опасен.
Подумав, он решил, что чувство растерянности вполне объяснимо: найдя среди ночи у себя в квартире незнакомца, утверждающего, что он инопланетянин, любой бы слегка опешил.
Он решительно распахнул дверь на кухню и почти испытал разочарование, никого там не застав. Николай Николаевич бросил взгляд в окно, которое выглядело невинно запертым, подошёл к нему и исследовал, но было не похоже, чтобы кто-то вылезал сквозь него на улицу.
Он приоткрыл форточку и немного постоял, втягивая носом прохладный воздух и вертя головой во все стороны на манер сторожевого пса. На улице было темно, безлюдно и тихо, как в фильме ужасов.
— А вот за что я люблю ковбоя! — неожиданно огласило двор пьяное пение, и Николай Николаевич схватился за сердце.
Он торжественно присвоил этой ночи звание самой неприятной в своей жизни и отправился в кровать, думая, что племянничек так и не соблаговолил проснуться, сотрясая квартиру рокочущим храпом счастливого человека, с которым инопланетяне не пытаются вступить среди ночи в контакт.
Николай Николаевич боялся, что уже не уснёт, но стоило ему закрыть глаза, как всё случившееся показалось ему лишь диковинным сновидением. За краешек сознания зацепился было, дразня ароматом сирени, вопрос: «Да, но откуда же он узнал про Лизу?», но вскоре вопрос улетел куда-то воздушным шариком, после чего в голове наступила приятная пустота, сгустившаяся в дрёму.
Проснулся он с беспокойным ощущением и смутным пониманием того, что ночью произошло нечто невероятно странное, и лишь через несколько секунд вспомнил, что именно так и было.
Удивительный человек (человек ли?) на кухне, его неподвижное лицо, глаза без глаз и механический голос… Невозможные заявления, абсурдные предложения, нелепица, несуразица и, по всей видимости, чей-то сомнительный розыгрыш на грани аферы…
— Уж ни Генкины ли театральные дружки это устроили? — произнёс Николай Николаевич вслух.
Вскочив с постели, он решительно направился в комнату племянника, намереваясь прояснить ситуацию, но Геннадий уже умчался по своим делам. Наградив испепеляющим взором пару его джинсов, комком валявшихся на стуле, Николай Николаевич направился на кухню, которая выглядела абсолютно прозаично при дневном освещении. Зачем-то выглянул во двор, словно надеясь разглядеть под окнами следы ночного злоумышленника, придирчиво осмотрел расположившуюся под окном клумбу с проклюнувшимися зелёными росточками. На клумбе не обнаружилось ничего подозрительного.
— Может, мне всё это попросту приснилось? — поинтересовался Николай Николаевич у своего отражения в зеркале в ванной комнате.
Отражение не стало ничего утверждать, но идея показалась достаточно разумной и успокаивающей, чтобы ею проникнуться.
Пора было поспешать на работу. Проглотив завтрак, Николай Николаевич выскочил из дому, застёгивая на ходу плащ.
— «Инопланетяне среди нас», — сообщил голос телеведущего, донёсшийся из приоткрытого окна квартиры на первом этаже, в которой проживала бодрая старушка баба Нюра.
Николай Николаевич от изумления укусил себя изнутри за щеку.
— Что он сейчас сказал?! — завопил он, просовывая голову в окно квартиры. — Какие инопланетяне?
— Господи, Коля, нельзя же так людей пужать! — воскликнула старушка, роняя половник. — Кто чего где сказал?
— Ведущий! В телевизоре только что. «Инопланетяне среди нас»?
— «Иные планы у вас», кажись, — сердито ответила баба Нюра. — Какие инопланетяне, да ещё с утра пораньше? Тебя что, Коля, окном прищемило?
Растерянный Николай Николаевич поплёлся на работу.
Неужели в свете ночного происшествия ему началось что-то мерещиться? Неужели у него разыгралось… воображение?
Это было совершенно недопустимо, поэтому, придя в контору, он твёрдо решил забыть обо всём случившемся или не случившемся и спокойно заняться делами. Натянув выражение лица сосредоточенного робота, он погрузился в кружение цифр, которые обычно выстраивалось в его сознании стройными логическими рядами, но сейчас никак не желали этого делать.
В голову лезли не прошеные мысли, разум точил червячок сомнения.
Николай Николаевич вёл самую мужественную на свете борьбу — с самим собой — до обеда. Стоя в очереди в буфете, он смотрел невидящим взглядом в тарелку бурого борща, и в ушах его гудело слово «проводник», почти сливаясь в своей ритмике со стуком сердца.
— Компот брать будете? — зевнула продавщица на кассе.
— Да, — сказал Николай Николаевич и, бросив поднос с обедом, выбежал вон.
Домчавшись до своего рабочего места, он отыскал на столе чистый лист бумаги, схватил ручку и что-то накарябал, причём руки его дёргались в таком судорожном танце, что проходящая мимо сотрудница обеспокоенно спросила:
— Вам плохо?
Он бросил в ответ что-то неразборчивое и, натягивая на ходу плащ, выскочил на улицу.
Он очень торопился, так, как не торопился никогда в жизни.
Когда Николай Николаевич ворвался в камеру хранения на вокзале, то дышал так тяжело, будто уже был готов отдать концы, но чувствовал себя при этом невероятно молодым, энергичным и бодрым.
— Ячейка 234! — крикнул он скучающему работнику, листающему журнал, и журнал шмякнулся на пол.
Работник потребовал ключ, но Николай Николаевич, задыхаясь, объяснил, что ключа нет, есть лишь цель, и цель эта — положить в ячейку очень-очень ценный предмет. Вокзальный служащий посмотрел на него с подозрением.
— Какой же это предмет? — спросил он.
В ответ Николай Николаевич протянул зажатую в мокром кулаке мятую разлинованную бумажку.
— Что это? — служащий приподнял бровь.
— Это письмо, — ответил Николай Николаевич. — А на что это ещё, по-вашему, похоже, на чемодан?
Вечером того же дня служащий камеры хранения жаловался за ужином своей жене на то, сколько сумасшедших нынче развелось, просто уму непостижимо.
Но Николаю Николаевичу, узнай он об этом обстоятельстве, не было бы до него никакого дела.
Впервые в жизни он чувствовал, что ему вообще всё равно, что подумают о нём люди, включая его самого. Важно было лишь идти по улице, сжимая в руке ключ от ячейки.
В одном из уголочков подсознания ехидный голос нашёптывал, что с тем же успехом можно было бы написать письмо Деду Морозу, как делают детишки. Только те маленькие и ещё совсем не знают жизни, а он человек взрослый, почти состарившийся даже, и ему должно быть стыдно верить в такую чушь и надеяться на чудеса, которых всё равно никогда не бывает, никогда-никогда, как инопланетян и всего того, что выходит за рамки привычного стандартизированного мира.
— Ну и пусть, — шептал Николай Николаевич, — ну и пусть…
Сердце билось в груди, и было немного страшно, но не так, как в преддверии оглашения диагноза врачом, а как перед прыжком в воду с вышки. На ботинке развязался шнурок, и Николай Николаевич зацепился за него ногой и чуть не упал, но не разозлился и не чертыхнулся, а лишь рассмеялся, сам не знаю, чему.
Он наклонился, чтобы завязать шнурок, а, поднявшись, увидел перед собой лицо, которое никогда не забывал, и задохнулся от счастья.
— Коля, — сказала Лизочка Протопопова удивлённо, но в её голосе не было вопроса, а волосах была седина, только он не заметил. — Господи, ты! Как ты, как?..
— Прекрасно, — ответил Николай Николаевич. Серость дней облетала с него с каждым биением сердца. — Превосходно, великолепно, замечательно. Исключительно.
Пахло сиренью и сбывающимися мечтами.
Племянник Генка сидел в кафе со своими театральными друзьями и о чём-то им рассказывал, заходясь молодецким хохотом, от которого звенели лежащие на скатерти столовые приборы, подпрыгивали тарелки, и дрожала листва за окном.
В потемневшем небе сгустились фиолетовые сумерки, и если бы кто-то пригляделся, то увидел бы висящий над городом инопланетный корабль с обшивкой, блестящей металлом неизвестного земной науке происхождения.
Хотя, возможно, это была просто звезда.
Статьи

«Мне всегда нужны неожиданности и интриги». Интервью с писателем Евгением Гаглоевым

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден
О возвращении в мир «Мары и Морока» и о славянской культуре.

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны
Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.
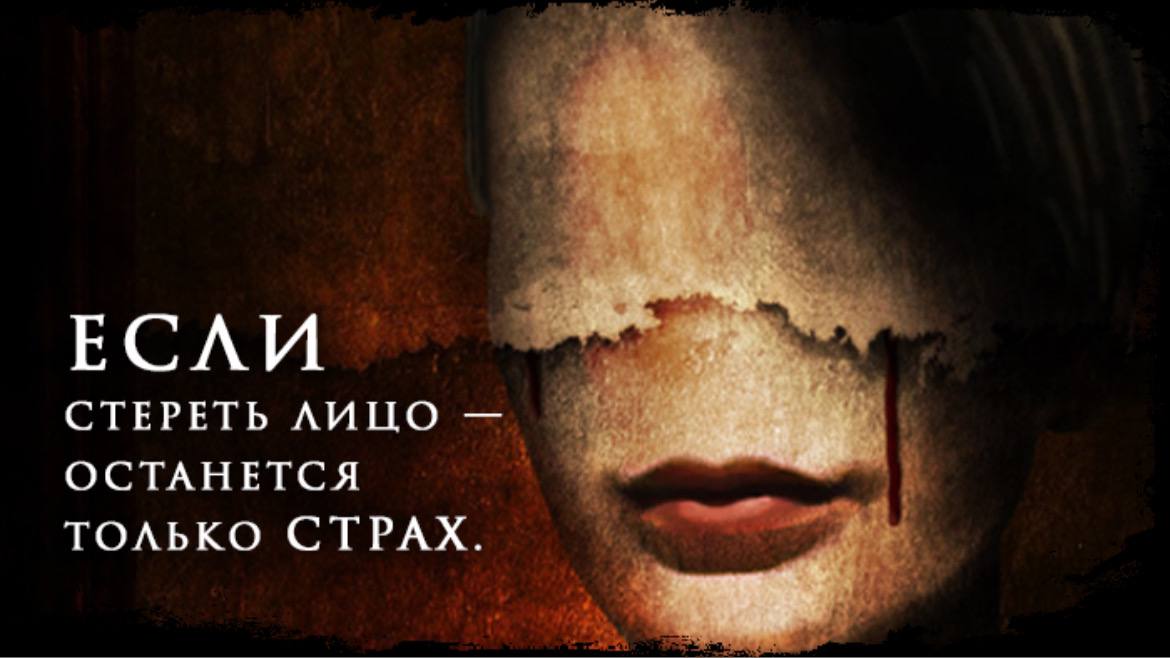
«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком
100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен
История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты
И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025
От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»
Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным
Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом
Всякая дверь — любая дверь
Показать ещё
Спецпроекты
Все спецпроекты
Все спецпроекты