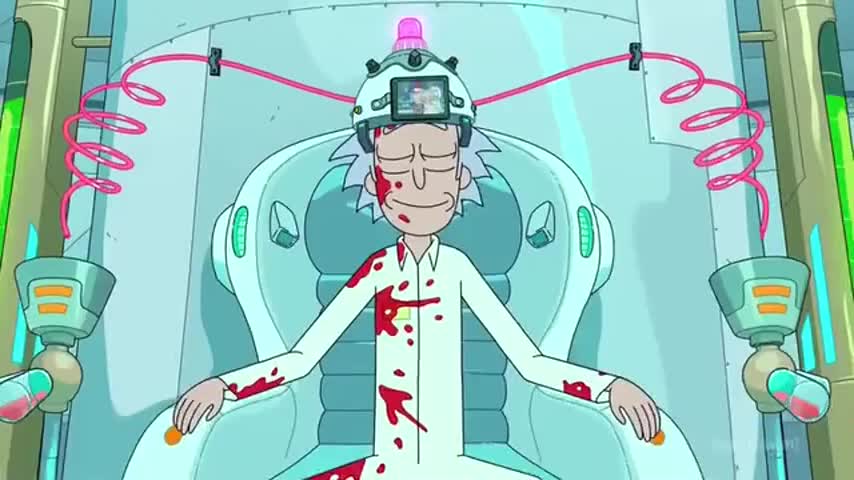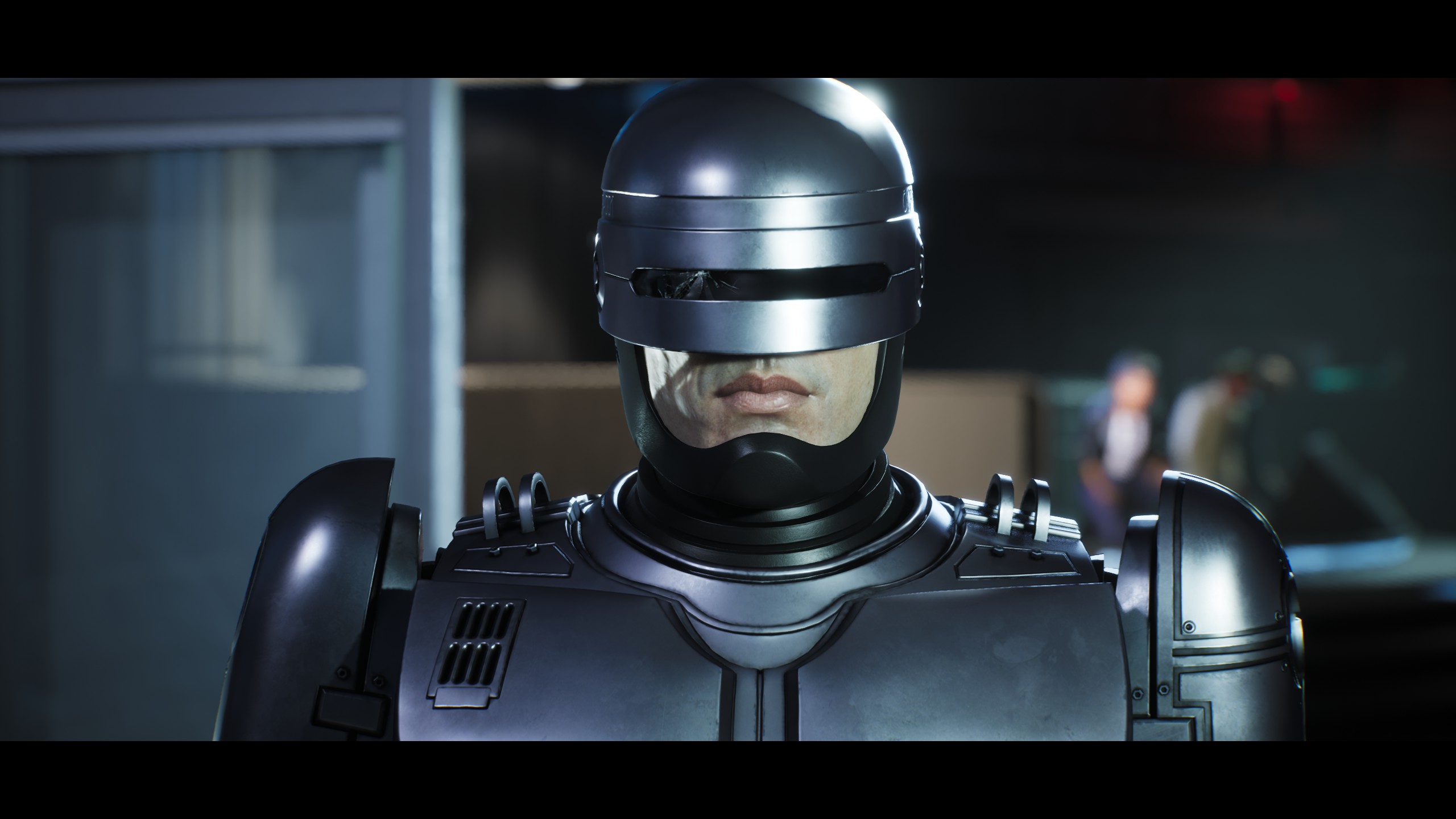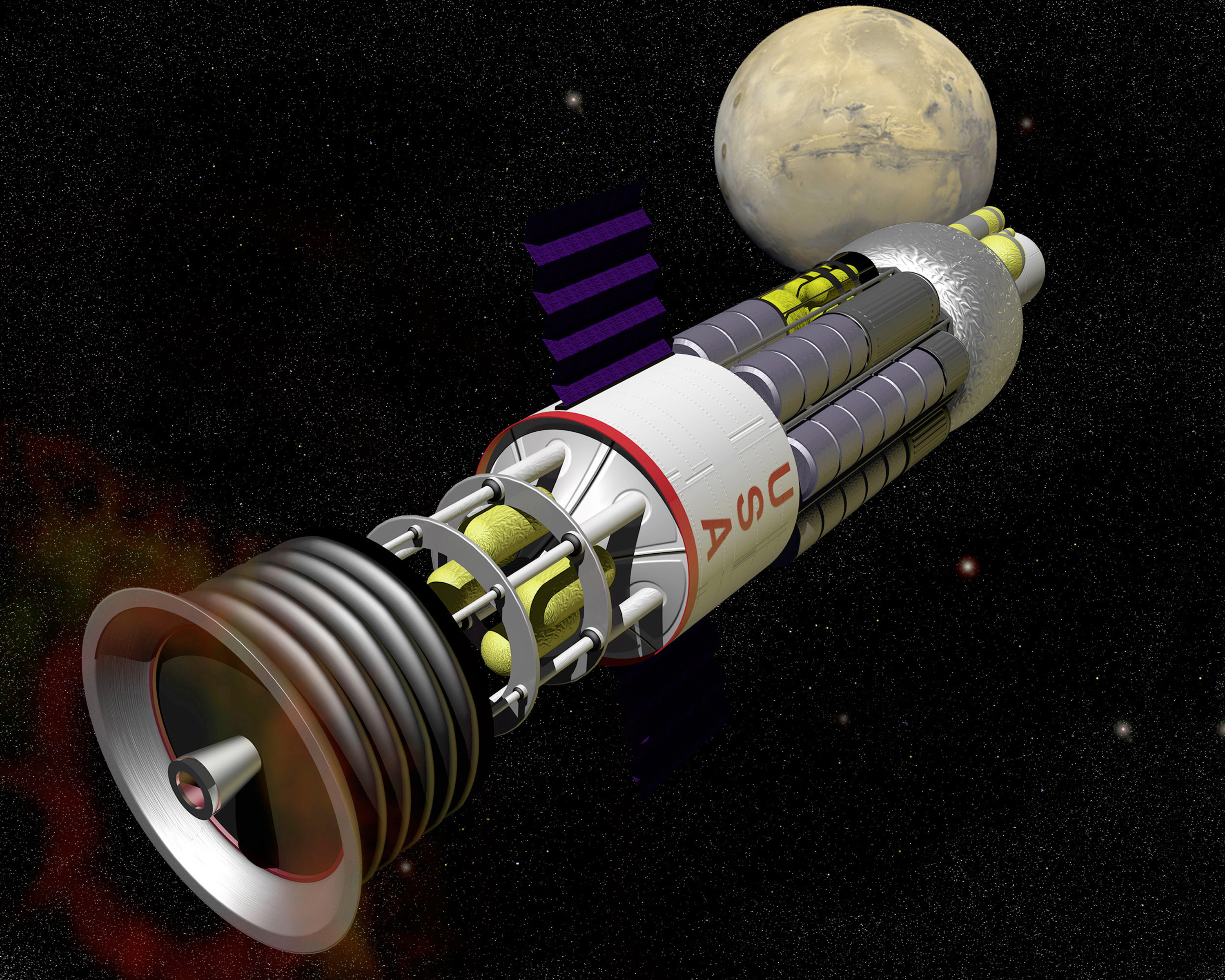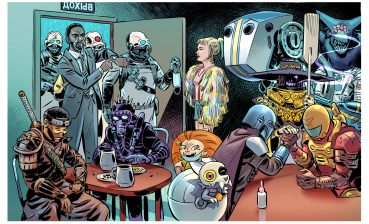Александра Хохлова, Дмитрий Орлов «ПСС»
1690
24 минуты на чтение
Куда податься тоскующей по советскому прошлому душе, если ты умер, но ни в Рай, ни в Ад, ни в Вальгаллу тебя не пускают? Разве что спросить у перевозчика Харона — возможно, он подскажет, куда отправляться таким, как ты...
Харона, дремлющего в лодке у берега чёрного Стикса, Дмитрий Михайлович заметил ещё издали, когда уточнял дорогу у чумазого малолетнего чертёнка. Последний, чертыхаясь на Балабановскую фабрику, пытался развести огонь под котлом со смолой и грешниками.
— Не перевезёте, уважаемый? — подойдя поближе, спросил у Харона покойный.
— А? Деньги есть? — встрепенулся перевозчик.
Похлопал себя по карманам брюк и обыскав пиджак, Дмитрий Михайлович обнаружил металлический советский рубль.
— Меня похоронили в старом костюме. И вот… завалилось за подкладку.
Харон покрутил монету в руках и с явным сожалением вернул обратно.
— Я собираю советские рубли, но принять к оплате не могу, — вздохнул он.
— Почему? — огорчился покойный.
— Устав перевозчиков мёртвых. Параграф два, пункт девять: «Нельзя принимать в качестве оплаты монеты несуществующих государств, за исключением специально зарезервированных валют», — процитировал перевозчик.
— Каких?
— Драхмы, оболы, сестерции, денарии, квинарии… — принялся перечислять Харон.
Покойный устало махнул рукой, давая понять, что ничего из вышеперечисленного у него нет.
— А зачем вам к древним грекам? — вкрадчиво поинтересовался перевозчик. — Вот, помню, перевозил одного доктора исторических наук. За два советских пятака. Но так до 1991 года было. — Харон уважительно покачал головой в чёрном капюшоне и продолжил: — Он умолял довезти его хоть до Тартара. Так Древнюю Грецию любил, что согласен был жить после смерти хоть в будке у Цербера, если тот не против. А вам что там делать? Вы кто? Инженер? Бюджетник?
— Так точно, — не стал отпираться Дмитрий Михайлович.
— Глаз у меня намётанный! — порадовался своей проницательности Харон. — А вероисповедание какое, если не секрет?
— Атеист.
— Ууу… Не берут никуда, да?
— Не берут, — грустно подтвердил слова Харона покойный.
— А к древним египтянам не просились? Осирис — дядька добрый.
— Так там очередь на последний суд со времён восемнадцатой династии тянется, — пожаловался Дмитрий Михайлович. — И записываться надо было ещё при жизни, и анкету иероглифами заполнять.
— В Вальгалле были? — участливо поинтересовался Харон.
— Был. Почти взяли, — с нескрываемой гордостью ответил Дмитрий Михайлович.
— Да ладно? Рассказывайте!
— Я ведь умер с ножом в руках, — стал объяснять покойный. — Бутерброд делал… Но потом подумали и передумали. Локи был за, а Тор и Один против.
…Действительно, в день своей смерти наш герой — Дмитрий Михайлович Добронравов — взял поджаренный в тостере ломтик хлеба, намазал оный домашним майонезом и положил сверху копчёную грудинку. Стал нарезать огурчик и… скоропостижно скончался от сердечного приступа. Хорошее настроение перед смертью обеспечило Добронравову лояльное отношение потусторонних существ, ведь позитивных людей любят везде, однако этого, к сожалению, было категорически недостаточно, чтобы покойный обрел своё место под загробным солнцем.
— Что это? Будто солнце встаёт, — спросил Добронравов у Харона, указав на зарево, разгорающееся слева.
— Это открывается проход в ПСС, — усмехнулся перевозчик.
— Куда?
— В Потусторонний Советский Союз.
— А мне туда можно? — с надеждой в голосе спросил покойный.
— Спроси у Алого Сфинкса. Я такие вопросы не решаю, — уклонился от прямого ответа перевозчик. — Иди налево. Просто иди на красный свет, — повторил он, уловив сомнение на лице у Добронравова.
И пошёл Добронравов налево, в сторону красного сияния. Шёл он, шёл по пустыне, пока наконец не увидел среди багряных барханов Сфинкса из полированного гранита.
В глазах Алого Сфинкса пылали рубиновые звёзды, улыбка хранила хитрый прищур, под красноватой каменной шкурой переливались мощные бугры мышц. Между внушительного размера когтистыми лапами стояла высоченная дверь из серого чугуна СЧ20, на которой был высечен герб: колосья пшеницы, сплетённые в снопы, венчали звезду с золотыми серпом и молотом, на кумачовой ленте серебрилась полустёртая надпись «Пролетарии всех стран…». Наполовину занесённый песками, Сфинкс, тем не менее, не утратил величественного вида и по-прежнему внушал страх и трепет.
— Выборочный маркер номер один. Герцеговина Флор! — сказал Алый Сфинкс хорошо поставленным дикторским голосом, как только наш герой протянул руку к двери.
— Что, простите? — переспросил Дмитрий Михайлович, но Сфинкс, как и положено, загадочно молчал.
«Пароль говорит, — догадался Добронравов. — А я должен отзыв сказать!»
— Сталин?.. — неуверенно проговорил Дмитрий Михайлович.
Дверь тихонько скрипнула, приотворяясь.
— Выборочный маркер номер два. Кукуруза!
— Хрущёв! — голос Дмитрия Михайловича прозвучал уже гораздо увереннее.
— Выборочный маркер номер три. Почему не на работе в рабочее время?
— М-м-м… Андропов?
— Умничка! Свой. Проходи! — ласково промурлыкал Сфинкс.
Горячая слеза умиления выкатилась из его левого глаза, упала на песок и с шипением испарилась.
Сфинкс пропустил Дмитрия Михайловича внутрь, и, сделав шаг вперёд, Добронравов оказался в саду, где цвели вишни. Рядом с ним стоял маленький чугунный сейф.
Внутри сейфа, в приоткрытую дверцу, виднелись багряные пески и кусочек тёмно-синего неба, похожего на атласную ткань, а над садом тёплый майский ветер гнал по обычным голубым небесам самые обычные белые тучки. Ах, весна, месяц май, время цветения вишен… Удивительное время, когда сердце бьётся чаще, а на душе радость и желание пить большими глотками «Вдову Клико-Понсарден».
«Вдова?.. Клико?.. Хм, откуда столь странные мысли? — удивился Дмитрий Михайлович. — Пузырьки шампанского играют и резвятся в вихре музыки… — продолжилась непонятно откуда взявшаяся мысль. — Музыки?..»
Где-то неподалёку зазвучал нежный перелив гитары. Исполнялось «Я был рождён, чтоб вами обладать». Заворожённый прекрасной мелодией Добронравов пошел на звуки по тенистой липовой аллее и вскоре вышел к особняку в английском стиле: с колоннами, верандой и зелёной крышей. Усадьба утопала в зарослях белой сирени.
Когда Добронравов подошёл поближе к крыльцу, то увидел мужчину и женщину в старинных одеждах начала двадцатого века. Мужчина закурил сигару, на что женщина с нажимом заметила: «Дым табачный воздух выел!» Покорно затушив табачное изделие, мужчина стал напевать что-то про господ офицеров, а женщина села за клавесин, услужливо вынырнувший из кустов, и начала аккомпанировать. Дмитрий Михайлович вежливо кашлянул, привлекая внимание.
— Кто вы? — среагировал мужчина. — Белогвардеец? Монархист?
— Нет, — опешил от таких вопросов Добронравов. — Я умер в начале двадцать первого века! Какие белогвардейцы, какие монархисты?! — возмутился он.
— Ну, не скажите, голубчик, — не согласился с ним собеседник. — Мы вот с Варенькой тоже не так давно скончались, но тем не менее… Подумайте хорошенько, может, в душе вы всё-таки белогвардеец и монархист? — с нажимом произнёс он.
— Нет! — твёрдо ответил Дмитрий Михайлович.
— Тогда пошёл вон, холоп, — хором высказались владельцы усадьбы, теряя к нему всякий интерес.
Обиженный Добронравов развернулся и пошёл прочь, куда глаза глядят. «…И хруст французской булки», — ещё долго неслось ему вслед, пока он не уловил запах речной воды. Сразу вспомнилось босоногое детство, рыбалка, удилище из лещины, рогулька из ивняка, кусок макухи в кармане. Дмитрий Михайлович подумал-подумал, да и пошёл в ту сторону…
...Плакучие ивы низко клонились над рекой, их ветви и листья, словно тоненькие пальчики, нежно касались воды. На противоположном берегу расхаживали люди в льняных портках и домотканых рубахах. Слышался топот копыт и свист нагаек. Вороные кони с лихими казаками в седле переходили реку вброд. Дойдя до переправы и дождавшись паромщика, Добронравов отдал ему советский рубль и поплыл на другую сторону.
— А вас случайно не Хароном зовут? — спросил он, вглядываясь в знакомые черты лица.
— Где Хароном, а где и Харитоном! — хохотнул розовощёкий паромщик.
— А можно вопрос?
— Да хоть десять. Спрашивайте!
— Почему Сфинкс — Алый, ведь логичнее Красный?
— Что? — от удивления паромщик даже присвистнул. — Не читали у Дюма «Красного Сфинкса»?
— Нет. Только «Трёх мушкетёров», — виновато пробормотал Дмитрий Михайлович.
— Название Красный Сфинкс с семнадцатого века зарезервировано за кардиналом Ришелье! Стыдно не знать!
— Ришельё, — поправил паромщика Добронравов.
— Чего?
— Дело в том, что у французов на конце фамилий буква «ё»: Депардьё, Ришельё, Монтескьё. Стыдно не знать!
Паромщик зловеще ухмыльнулся.
— Ладно. Спасибо, что напомнили. По долгу службы обязан спросить: вы за белых или за красных?
— В каком смысле?
— Воевать за кого будете? За красных? За белых? — поинтересовался Харитон. — Или против всех?
— Это обязательно?
— Здесь обязательно, — улыбнулся паромщик.
— Где это здесь? — покрутил головой Дмитрий Михайлович.
— На Гражданской войне.
— Я пацифист!
— Уверены? Разве никогда не хотелось прокатиться на тачанке или броневичке? Пострелять из пушек «Авроры» по Смольному?
— Вы хотели сказать — по Зимнему? — уточнил Добронравов.
— И по Зимнему тоже!
— Звучит заманчиво, но…
— Хорошо. Доплывём до берега, пересядем на баркас и поплывём в Среднюю Азию воевать с басмачами! Любите чёрную икру? Ложками будете есть из фарфоровой супницы!
— Нет, высадите меня где-нибудь, где не воюют.
Насмешливо вздёрнув бровь, паромщик велел Добронравову закрыть глаза и считать от одного до сорока, но, как только Дмитрий Михайлович досчитал до тридцати семи, бессовестный и злопамятный Харон-Харитон бесцеремонно спихнул его в воду. Добронравов начал тонуть, захлёбываясь водой, но вовремя вспомнил, что он уже покойник. И взял себя в руки. И всплыл на поверхности небольшого озера, посреди хвойного леса.
Выбравшись из воды и просушив одежду, Дмитрий Михайлович пошел вдоль берега, интуитивно чувствуя, что где-то там, впереди, должна стоять дача, похожая на скромный дом купца второй гильдии, с кинозалом, подземным ходом и скрытой от глаз системой отопления. Как ни удивительно, но вскоре Добронравов добрёл до дачи, и была она точь-в-точь такой, какая ему представлялась. Заглядывая в высокие окна, он уже знал, что там увидит: столовую с огромным столом, уставленным различными яствами и бутылками красного вина, скромную до аскетизма спаленку с деревянной кроватью, рядом с которой стоят сапоги из седельной кожи.
— Ви-и-и сталинист? — спросил у Дмитрия Михайловича приятный мужской голос с лёгким грузинским акцентом.
Добронравов так и не понял, откуда шёл голос, — казалось, он звучит у него в голове.
— М-м-м… не совсем.
— Ви умерли до 1953 года?
— Нет, что вы. Я после 1953-го только родился.
Невидимый собеседник надолго замолчал и не издавал ни звука, но Дмитрий Михайлович почему-то подумал, что он курит трубку.
— Хотите остаться здесь?
— Нет.
— Хотите идти дальше?
— А куда дальше?
— Времени у Добронравова — вечность, перед ним — бесконечность. Все пути открыты. Правильно я говорю, товарищ Мехлис?
Ответа товарища Мехлиса Добронравов не расслышал, так его оглушил пронзительный заводской гудок. От неожиданности Дмитрий Михайлович зажмурил глаза, а когда открыл, то не увидел больше ни леса, ни дачи, ни озера. Вокруг сновали люди с тачками, шипел пар, вырывавшийся на свободу из огромного котла паровоза. Звенел металл. Баба Хопра забивала сваи. От каждого удара земля дрожала так, будто где-то вдали шагал великан.
Перед изумлённым Добронравовым предстала великая стройка гидроэлектростанции, похожая на гигантский муравейник. Миллионы тружеников — и каждый занят, делая своё дело: долбит породу, выносит обломки, заливает бетон. У многих рабочих на груди сияли ордена героев труда. Симпатичные комсомолки в обтягивающих комбинезонах весело красили, штукатурили, шпаклевали. На холме возвышалась вышка с громкоговорителем, из которого доносилось: «Эх, хорошо в стране советской жить…»
Внезапно музыка прервалась, и прозвучало приглашение для всех желающих записываться в космическую экспедицию на Марс.
— Что, товарищ, мутит, да? — участливо спросил у Дмитрия Михайловича голубоглазый комсомолец, с которым он познакомился в тренажёрном зале подготовительного центра будущих «марсиан».
Нашего героя действительно мутило, но не от тренажёров, а от ответа на вопрос: «А почему не летят на Луну?» Оказывается, Луну давно захватил П3Р — Потусторонний Третий Рейх, выселив оттуда то ли шумеров, то ли вавилонян.
— И теперь надо успеть первыми хотя бы на Марс! — так ответил Добронравову комсомолец.
— Какой Марс?! Я же умер! Какие стройки, какие полёты?! Это всё ненастоящее!
— Э, нет! С таким настроением вам тут делать нечего, — решительно заявили Дмитрию Михайловичу крепкие ребята в штатском, выводя под руки из тренажёрного зала. — Таких не берут в космонавты!
…Сигарообразная ракета стартовала без него, а на Дмитрия Михайловича с ясного неба спикировал бомбардировщик, и он бросился бежать, не разбирая дороги. Сначала Добронравов бежал вдоль железнодорожного полотна, потом наткнулся на плетёный забор, украшенный сверху перевёрнутыми глечиками. Поднял глаза — увидел сельский домик с соломенной крышей.
— Матка — курки, яйки, сало, млеко! Дафай, дафай! — услышал Добронравов грубые мужские голоса и женский плач.
Хоть Дмитрий Михайлович и был пацифистом, но пройти равнодушно мимо тех, кто обижал женщин, он не мог. Влетев во двор, он обнаружил там бабульку, прижимающую к себе курочку-пеструшку, и троих солдат в серой форме с автоматами наперевес. Увидев Добронравова, солдаты разбежались с криками: «Партизанен! Партизанен!»
Побеседовав с местной жительницей, угостившись яичницей со шкварками и молочком, наш герой узнал, что партизанский штаб здесь недалеко — у любого немчуры спроси, и он покажет. Дмитрий Михайлович не собирался идти к партизанам, но, как только он вышел за порог дома гостеприимной хозяйки, его завертела декабрьская вьюга и бросила в объятия вражеского патруля.
— Аусвайс! — потребовали немцы.
Добронравов порылся в кармане и обнаружил профсоюзный билет. Немцы внимательно изучив билет, держа его вверх ногами.
— Проходи! — сказали они.
— Не подскажите, как пройти к партизанам? — спросил у солдат Добронравов, вспомнив совет доброй бабульки.
— Через тва дома направо, руссиш швайне, — высокомерно ответили те и подтолкнули его в спину дулами автоматов. — Иди! Дафай, дафай!
Партизаны как раз наряжали ёлку и собирались праздновать Новый год. Играли на баяне, пели «Бьётся в тесной печурке огонь». Печь топили сосновыми шишками и пачками листовок, где готическим шрифтом были напечатаны призывы переселяться в П3Р.
— Оставайся с нами! — предложил Добронравову белорусский партизан, подливая ему спирта в металлическую чашку. — Сам видишь, живём мы хорошо. Но женщин, скажу честно, здесь мало — не любят они военное время.
— Я вообще не понимаю, что происходит. Почему так быстро всё меняется?
— В ПСС собрана романтика всех советских эпох. Мне нравится период ВОВ, и вот я здесь.
По ту сторону Советского Стикса — «Дворянское гнездо». Там одна контра недобитая живёт, — объяснил Добронравову старожил. — Выбери себе усадьбу с мезонином, сиди и ностальгируй, как хорошо было при царе. На Гражданской войне живут те, кто любит сражаться, но танкам предпочитает конницу. Надоело в эпохе Гражданской войны? Слушай звуки. Услышишь заводской гудок, просто иди. И мир перед тобой поменяется. Будут заводы, фабрики, стройки. Надоело? Слушай звуки. Услышишь отдалённый рёв сирены — иди на звук, мир опять поменяется, и будут тебе танковые сражения и партизанские землянки. Здесь каждая эпоха простирается в бесконечность, и только твоё желание всё меняет. Или нежелание — ПСС чувствует, что ты не в своей тарелке, и делает выбор за тебя.
— Хочешь на Марсе яблони сажать? Иди на рокот космодрома, — задумчиво проговорил Дмитрий Михайлович.
— Ну вот ты всё и понял! — обрадовался партизан. — Хотя за такие места, как Луна или Марс, нужно побороться с соседними потусторонними мирами. Так веселей! Ну что? Не передумал уходить?
— Нет.
— Давай хоть поезд пустим под откос! На посошок!
Дмитрий Михайлович покачал головой.
— Я человек мирный, нет для меня в войне никакой романтики.
— Что ж, каждому своё, — опечалился партизан. — Давай спать, Михалыч, утро вечера мудренее.
Спал Добронравов без сновидений, а проснулся посреди кукурузного поля.
Солнце слепило глаза сквозь изумрудную зелень листвы, а капли росы на кукурузных метёлках блестели, как алмазы. Запах травы, молочной спелости початков, одухотворённой свежести стоял над бескрайними рядами царицы полей. Стрекотали кузнечики — маленькие зелёные хозяева лугов и холмов, жужжали пчелы. Ветер колыхал мощные упругие стволы, рождая шелестящий звук.
Заметив посреди поля хату-мазанку, наш герой пошёл в том направлении. Преодолев клумбы с декоративными подсолнухами и роскошные грядки с томатами, картошкой и перцем, Дмитрий Михайлович подошёл к крыльцу и позвал:
— Эй, хозяева!
Дверь распахнулась, на порог выскочил мужчина в синих джинсах, чёрных очках и вышиванке.
— Здравствуйте, гости дорогие. Здоровеньки булы! Я Никита Сергеевич Хрущёв, — представился он.
И, не давая нашему герою опомниться и рта раскрыть, принялся рассказывать о кукурузе. Дескать, единственное в мире высококультурное растение — и еда для человека, и корм для скота, и сырьё для алкоголя, и биотопливо.
«Пойдёмте, комбайны покажу! И новейшую систему полива! И теплицу арктическую, где выводится сорт кукурузы, способной расти за полярным кругом, и…»
— И никакой вы не Хрущёв, — спокойно заметил Дмитрий Михайлович.
— С чего вы взяли? — возмутился мужчина.
— Да хоть бы с того, что вы… индеец.
Мужчине явно не понравились слова Добронравова — земля вокруг его ног начала дымиться. Но Дмитрия Михайловича этим было не напугать: как-никак, он уже на двух войнах побывал.
— Индеец в джинсах! — решил он добить оппонента.
Лже-Хрущёв откинул длинные иссиня-чёрные волосы со смугло-красного лица, почесал горбинку орлиного носа. Снял очки. Глаза у него оказались необыкновенные: большие, миндалевидные, сильно косящие к переносице, а главное — зелёные, со зрачками цвета перламутровых кукурузных зёрен.
— И снова здравствуйте! — намного подумав, произнес индеец. — Разрешите представиться — майянский бог кукурузы Кукуцаполь.
— И снова ложь, — не поверил ни единому слову Добронравов. — Кукуцаполь — советское имя, означающее «Кукуруза — царица полей».
— Ессно, советское, — охотно согласился с ним странный тип. — Мое настоящее имя вам ничего не скажет, да вы его и не выговорите. Я действительно майянский бог, но… в Риме будь как римляне, а в ПСС… Ну, вы меня понимаете.
— Как вы попали сюда, не будучи советским человеком?! — возмутился Дмитрий Михайлович. — Вообще не будучи человеком?
— Мне помог наш общий знакомый с речки.
— А! Харон-Харитон?
— Да, как-то раз угостил его попкорном. Мой потусторонний мир давно закрылся в связи с отсутствием верующих и желающих, — вздохнул майянский бог. — Народ разбежался кто куда. Думал, совсем пропаду, но была в истории вашей страны замечательная эпоха, куда я отлично вписался.
— А где тогда настоящий Хрущёв?
— В доме. Пойдёмте, покажу.
Кукуцаполь повёл Дмитрия Михайловича по запутанному лабиринту комнат, коридоров, залов и внутренних двориков и наконец привёл в каморку, где по стенам были развешены репродукции картин Айвазовского, надерганные из журнала «Огонёк», и стояла старинная железная кровать с шишечками в виде кукурузных початков. Над кроватью висела грифельная доска. На ней было написано семи- или восьмизначное число — начиналось, кажется, с девятки, заканчивалось на тройку. А на кровати лежал связанный человек в семейных трусах и с кляпом во рту.
— Вы что делаете? — возмутился Добронравов. — Освободите его немедленно!
— Сами освобождайте, — спокойно ответил майянский бог, небрежно прислоняясь к дверному косяку, рядом с которым висел морской пейзаж в изумрудных тонах «Кораблекрушение у берегов Гурзуфа».
Дмитрий Михайлович сделал шаг в сторону кровати, но тут его взгляд упал на белые облака над морем на картине «Эскадра Черноморского флота перед выходом на Севастопольский рейд». И он отступил.
— Будете развязывать?
— Нет.
— Почему?
— По кочану! То есть по початку.
— А если серьёзно?
Кивнув на репродукцию «Дорога на Ай-Петри», где море сияло сквозь чуть розоватую дымку, Дмитрий Михайлович с грустью заметил:
— А я ведь там побывал — лет в двадцать, а потом собирался-собирался, да как-то не срослось…
— Понятно, — подойдя к грифельной доске, Кукуцаполь стёр последнюю тройку и исправил на четвёрку. — Пойдемте, не будем мешать Никите Сергеевичу отдыхать.
Выйдя из дома, Добронравов попытался прислушаться к звукам, чтобы понять, куда ему теперь идти. Кукурузное поле простиралось от края до края, и слышен был лишь отдалённый шум работающих комбайнов. Понаблюдав за его мучениями, майянский бог сжалился и сказал:
— Ладно, пойдёмте, ещё кое-что покажу. Чтобы поменять эпоху, необходимо не только к звукам прислушиваться. Шире надо смотреть!
Кукуцаполь повёл нашего героя на задний двор, и Дмитрий Михайлович понял, что хатка-мазанка была вершиной гигантской многоступенчатой пирамиды, высокой, как гора.
— Я видел такую пирамиду в фильме с Тарантино, — заметил майянскому богу Добронравов.
— Я тоже, — слегка пожал плечами Кукуцаполь. — Задумка понравилась — сделал и себе такое.
Каждая ступень пирамиды была как этаж дома, и спуститься по ней вниз без специального альпинистского снаряжения не представлялось возможным. Бог указал Дмитрию Михайловичу на площадку с дельтапланом.
— А вы знали, что в СССР свободные полёты на дельтапланах начались с 1972 года?
— Это называется «шире смотреть»?! — задрожал от страха Добронравов. — Никуда на нём не полечу!
— Почему?
— Не умею!
— Учиться никогда не поздно.
— Боюсь!
— Чего боитесь-то? Разбиться? — расхохотался бог, согнувшись пополам. — Мать моя — богиня перца!
Наш герой прекрасно понимал, что глупо бояться смерти, когда ты мёртв, но ничего поделать с собой не мог.
— Я ещё в теплице хотел побывать, — жалобно попросил он.
— С кукурузой, которая растет за полярным кругом? — хмыкнул Кукуцаполь, ещё больше скашивая взгляд. — Дмитрий Михайлович, вам же не пять лет было, когда вы умерли.
— А каску? Каску дадите? — всхлипнул Добронравов.
Закатив зелёные глаза, Кукуцаполь досчитал до десяти.
— Дмитрий, извините, что я вас так выпроваживаю, но мне, честное слово, некогда. Ко мне друг Юра должен прийти. Он очень известный и занятой человек, а я ему маисовых блинчиков напечь обещал.
— Юрий Гагарин? — с надеждой спросил Добронравов. — Я бы тоже с ним пообщался.
— Не Гагарин, а Кнорозов.
— А кто это?
Кукуцаполь схватился за сердце, или что там у богов на этом месте.
— Юрий Валентинович Кнорозов — советский историк и этнограф, лингвист и основатель советской школы майянистики. Известен своей дешифровкой письменности майя. Стыдно не знать!
Из-под верхней губы Кукуцаполя высунулись клыки, как у ягуара. Не рискнув больше испытывать терпение бога, Добронравов покорно выслушал краткий инструктаж, закрепил страховку и, взявшись за планку, начал разбег. Добежав до края пирамиды, он сделал прыжок и стал планировать.
Под ним пролетали зелёные квадраты полей и зеркала озёр сказочной синевы. Свежий ветер наполнял грудь свободой, а в голове звучали последние слова Кукуцаполя: «Хотите перемен — просто выберите ориентир, и вперёд». Далёкий горизонт играл с дельтапланом в догонялки и вскоре Дмитрий Михайлович увидел прекрасный город-сад и пошёл на снижение.
Приземлившись между детской площадкой и стендами с передовицами газеты «Правда», Добронравов оставил дельтаплан лежать на зелёном газоне рядом со свежепобеленной статуей «Девушка с веслом», а сам отправился гулять по городу.
Побродив немного по тенистым улочкам с двухэтажными домами, Дмитрий Михайлович вышел на широкий проспект. Там стояли телефонные будки, автоматы с газводой лимонной (3 коп.) и апельсиновой (3 коп.), а на стенах, рядом с синими почтовыми ящиками, висели автоматы шипра (10 коп.). В детстве, если Добронравову очень хотелось в кино или мороженого, а денег не было, он шёл по улице и внимательно смотрел под ноги. И деньги всегда находились. Хватало и на мороженое, и на пирожное, и в кино, и маме позвонить. Вот и сейчас, проделав тот же манёвр, Добронравов легко отыскал закатившийся в щель рядом с бордюром десюлик и бросил его в автомат шипра.
Дмитрий Михайлович зажмурился, и… на него снизошло освежающее цитрусовое утро с эдакой лёгкой горчинкой в начале, осенними цветами на холодном рассвете в середине, прогретым на солнце деревом и янтарной смолой в конце. На мгновение Добронравов перенёсся на знойный остров Кипр в Средиземном море, а затем проехала поливальная машина, и всё исчезло. Но наш герой не огорчился, а просто пошёл дальше — в уютный сквер на берегу пруда с утками и лебедями.
— Ах, какой красивый молдаванин! Ты заметила? — случайно подслушал Добронравов разговор двух женщин.
Говорили они о высоком, импозантном мужчине, который сидел за одним из столиков летнего кафе. Перед ним стояла бутылка «Букет Молдавии» и гранёный стакан. По радио звучала песня Высоцкого. Мужчина тихонько подпевал: «Ты, Зин, на грубость нарываешься...», выбивая такт ногой, и одновременно читал какую-то инструкцию. Её он изучал с большим интересом, смешно шевеля чёрными густыми бровями. Эти великолепные брови Добронравов узнал бы из миллионов.
— Здравствуйте, Леонид Ильич! — волнуясь, произнёс Дмитрий Михайлович, подходя поближе к столику.
А волноваться у нашего героя причина была. Ещё при жизни Добронравов в шутку пообещал сам себе, что он скажет генсеку Брежневу, если вдруг после смерти они увидятся. Леонид Ильич поднялся со стула и сердечно поприветствовал его, как старого друга.
— Леонид Ильич! — торжественно начал Добронравов. — Вот, говорят, застой, застойные годы… А для меня — лучшие годы моей жизни!
Генсек снисходительно улыбнулся и ничего не ответил, но попросил Дмитрия Михайловича передать ему грифельную доску и кусочек мела с соседнего столика. Исправив последнюю цифру, Леонид Ильич окликнул официантку:
— Люсенька, можно вас?
К столику величаво, как пава, подплыла официантка. Белый накрахмаленный фартук, белая шапочка, блокнотик и карандаш в руках. Красивая, как модель из заграничного журнала, только ещё лучше.
— Люсенька, сегодня я встретил дорогого товарища Дмитрия Добронравова. Чем мне его порадовать? Что вы порекомендуете?
— Бутылочку кокура из Массандры, салат оливье, лобио, буженину, картошечку и дыньку, — защебетала девушка. — А на второе борща, мититей по-молдавски, столичной грамм по сто пятьдесят, огурчики и строганину. А потом компот с булкой.
— Компот? — с сомнением потянул генсек. — Дмитрий Михайлович, а хотите кефира? Врачи рекомендуют.
— Сто лет уже не пил советский кефир, — скромно вздохнул Добронравов.
— И два стакана кефира!
— Сию минуточку! — официантка сделала пометки в блокнотике и упорхнула на кухню.
— Посмотрите, Дмитрий, какую занятную вещицу мне дали почитать, — с этими словами Леонид Ильич протянул Добронравову листок с инструкцией.
Там было написано:
Инструкция «Сообразим на троих»
Сигналом к выполнению инструкции является знак из трёх пальцев на лацкане у стоящего возле подъезда мужчины. Он означает, что три человека должны самоорганизоваться, скинуться по рублю и купить в бакалее бутылку столичной за 2,87 руб. и сырок «Дружба» за 13 коп. Рекомендуемое место распития — гараж, скамейка в парке и т. п.
— А вы про это знали? — спросил генсек у Добронравова.
— Да. А если стакан не взять из дома, то его можно добыть в автомате с газировкой, — вспомнил с тёплой улыбкой Дмитрий Михайлович. — Леонид Ильич, можно спросить? Вы ведь давно в ПСС. Куда бы мне пойти? Посоветуйте.
— Хм. В Кукуцаполье были?
— Где?.. А, да. Был. Только оттуда.
— Как там Никита? — заботливо поинтересовался генсек.
— Отдыхает, — уклончиво ответил Добронравов.
— А вам покой только снится? Не нравится здесь?
— Нравится, но… — замялся Дмитрий Михайлович, не зная, как объяснить.
— Понимаю, — не стал настаивать на ответе Леонид Ильич. — Хочется остаться, но надо уходить. Как и ему…
— Кому? — Добронравов проследил за взглядом генсека и увидел парящего в небесах олимпийского мишку.
Воздушные шарики, добрая, немного грустная улыбка, поднятая в прощальном жесте лапа и взгляд, полный надежды. Ком подкатил к горлу нашего героя от нахлынувших воспоминаний. Он встал из-за стола, и город тут же исчез.
Дмитрий Михайлович стоял один посреди берёзового леса со стаканом кефира в руках.
…Мишка летел медленно и низко, почти цепляя нижними лапами верхушки деревьев, и Добронравову не составляло особого труда следовать за ним. Внезапно Дмитрий Михайлович почувствовал под босыми ногами мокрый песок — он и не заметил, как разулся. Оглядевшись, Добронравов понял, что идёт уже не по лесу, а по песчаной морской полосе. Справа холмы, поросшие прямыми соснами, слева море, под ногами — янтарь.
Рижское взморье! Жёлтые и оранжевые, прозрачные и мутные кусочки янтаря приятно холодили босые ступни. Мягкий, тёплый внутренний свет янтаря манил взор. Наклонившись, Дмитрий Михайлович набрал горсть песка и промыл его водой. В ладонях остались прекрасные кусочки застывшей смолы. В некоторых янтарных осколках были пузырьки, в некоторых — навеки замурованные муравьи и мушки. А вон под водной гладью блестит янтарный камень величиной с кулак боксёра! А вон там, на глубине, мерцает янтарный кубок на янтарной столешнице, тёмно-медовая шкатулка отражается в зеркале с багряным окладом. С годами слёзы древних сосен утрачивают светлую лёгкость, приобретая взамен тёмную имперскую помпезность.
Ещё шаг вперёд — и оказался бы наш герой в Янтарной комнате. Она манила прикоснуться к себе, почувствовать себя хозяином империи. Янтарные стены уже поднимались вокруг Дмитрия Михайловича, и закрывались янтарные двери, но олимпийский мишка улетал за холмы, а наш герой чувствовал, что нельзя упускать его из виду.
Выбравшись на дорогу, Добронравов обнаружил под кустом свои ботинки, присел на траву, чтобы обуться, и, как только он их зашнуровал, раздался резкий звук тормозов. Дмитрий Михайлович поднял глаза — рядом с ним остановился синий «Москвич-2141». Водителем был парень с корейскими скулами и русской улыбкой.
— Представляться нужно? — весело спросил он.
— Нет, Витя, не нужно, — ответил Дмитрий Михайлович.
— Садись!
— Подожди, Витя! Знаешь, что я хотел тебе сказать…
— Знаю, — рассмеялся Виктор. — Ты, Витя, пел: «Перемен требуют наши сердца». Вот они и пришли, эти перемены, только ну их… — последние слова водителя заглушил сигнал автобуса, промчавшегося мимо. — Это хотел сказать?
— Да! — удивился Добронравов. — А как узнал?
— Садись, — велел Виктор. — Все мои пассажиры говорят ровно одно и тоже. Достань из бардачка мел и грифельную доску. И… сам знаешь, что нужно сделать.
Дмитрий Михайлович сел на переднее сидение.
— Куда поедем?
— В реинкарнацию веришь?
— После того, на что я насмотрелся после смерти, — хмыкнул Добронравов, — я верю во всё. За всю жизнь столько впечатлений не получал! Я даже на дельтаплане летать научился!
— Здорово, — одобрительно покивал головой Виктор. — Только ради этого стоило умереть. Сейчас дождёмся зелёного света — и в путь!
И Цой кивнул на неизвестно откуда взявшийся на пустынной дороге светофор.
Куратор проекта: Александра Давыдова
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!
Только в предзаказе на CrowdRepublic:
- 13 номеров и 3 спецвыпуска
- Фирменная атрибутика
- Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:17дней
Статьи

Замиль Ахтар «Эпоха Древних». В дебрях мрачного Востока

Лучшие книги 2024 года: фантастика, фэнтези и не только
Много книг: отечественных и зарубежных, страшных и смешных, а ещё — книг о фантастике.

К. У. Джетер «Ночь морлоков». По следам Герберта Уэллса
Роман, положивший начало стимпанку

Читаем книгу: Дарья Иорданская — Погасни свет, долой навек
Сюжет готического детектива в сеттинге викторианской Англии вдохновлен рассказами Эдгара По.

Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно». В петле времени
«День сурка» в российских реалиях

Анджей Сапковский «Перекрёсток ворона». Какой получилась книга о юности Геральта
Ведьмак. Сага. Начало.

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни
Тёмное фэнтези на фоне песков
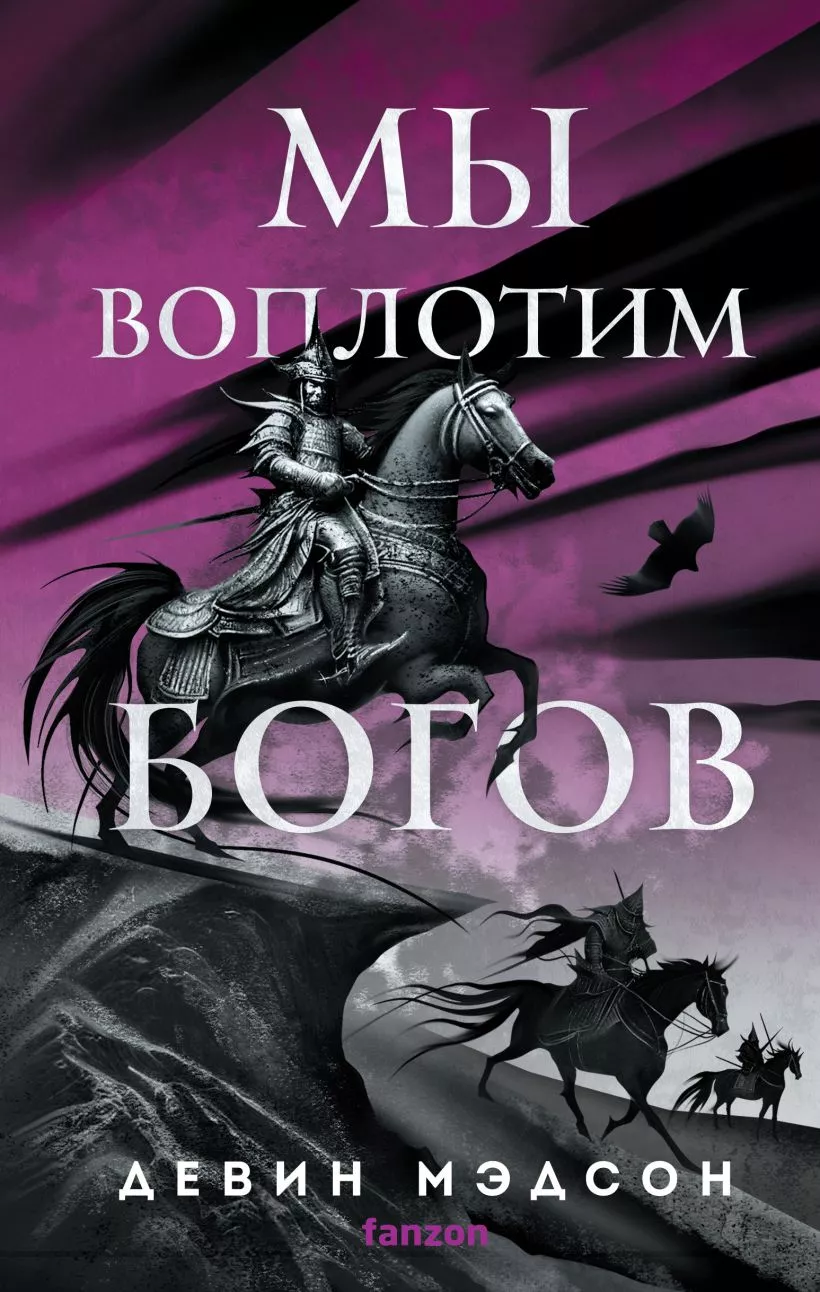
Девин Мэдсон «Мы воплотим богов». Закономерная развязка
Достойный финал фэнтезийной эпопеи

Леони Свонн «Гленнкилл: следствие ведут овцы». Мисс Мапл наносит ответный удар
Классический английский детектив с необычным сыщиком

«Некоторым читателям мои книги открыли индийскую мифологию, и я этим очень горжусь». Беседа с Гуравом Моханти
Интервью с автором индийской «Игры престолов»
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!
Только в предзаказе на CrowdRepublic:
- 13 номеров и 3 спецвыпуска
- Фирменная атрибутика
- Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:17дней
Спецпроекты
Все спецпроекты
Все спецпроекты