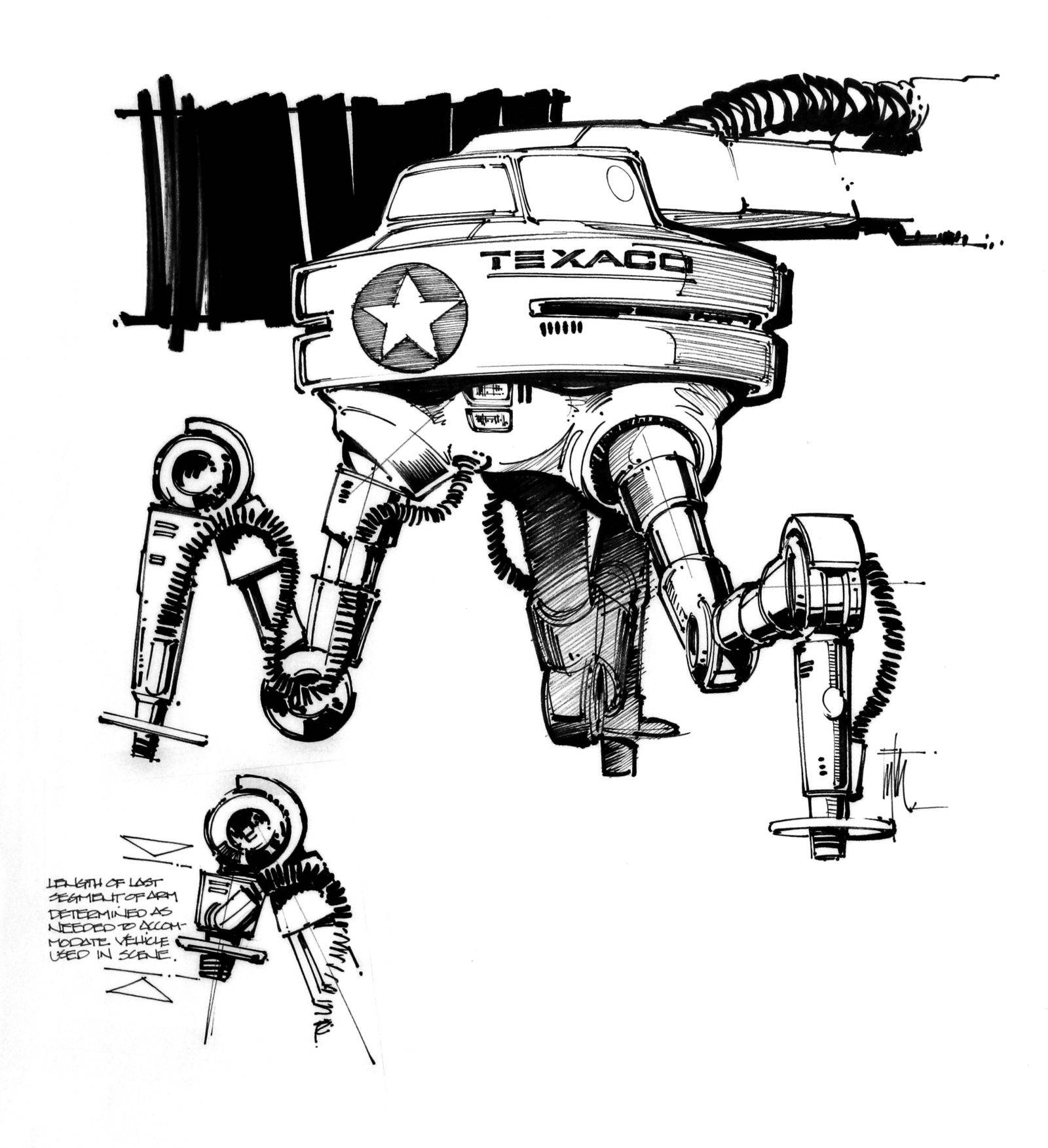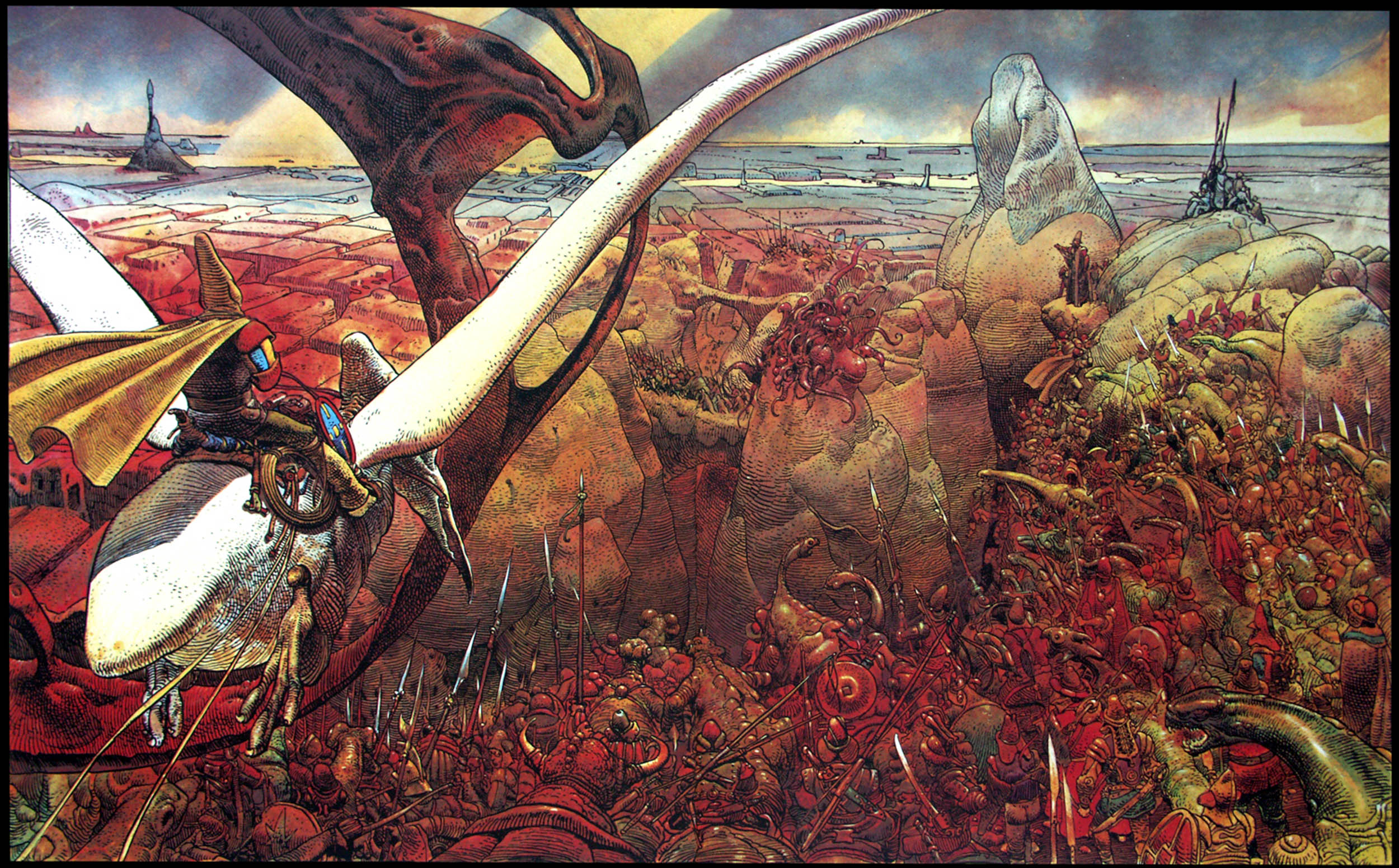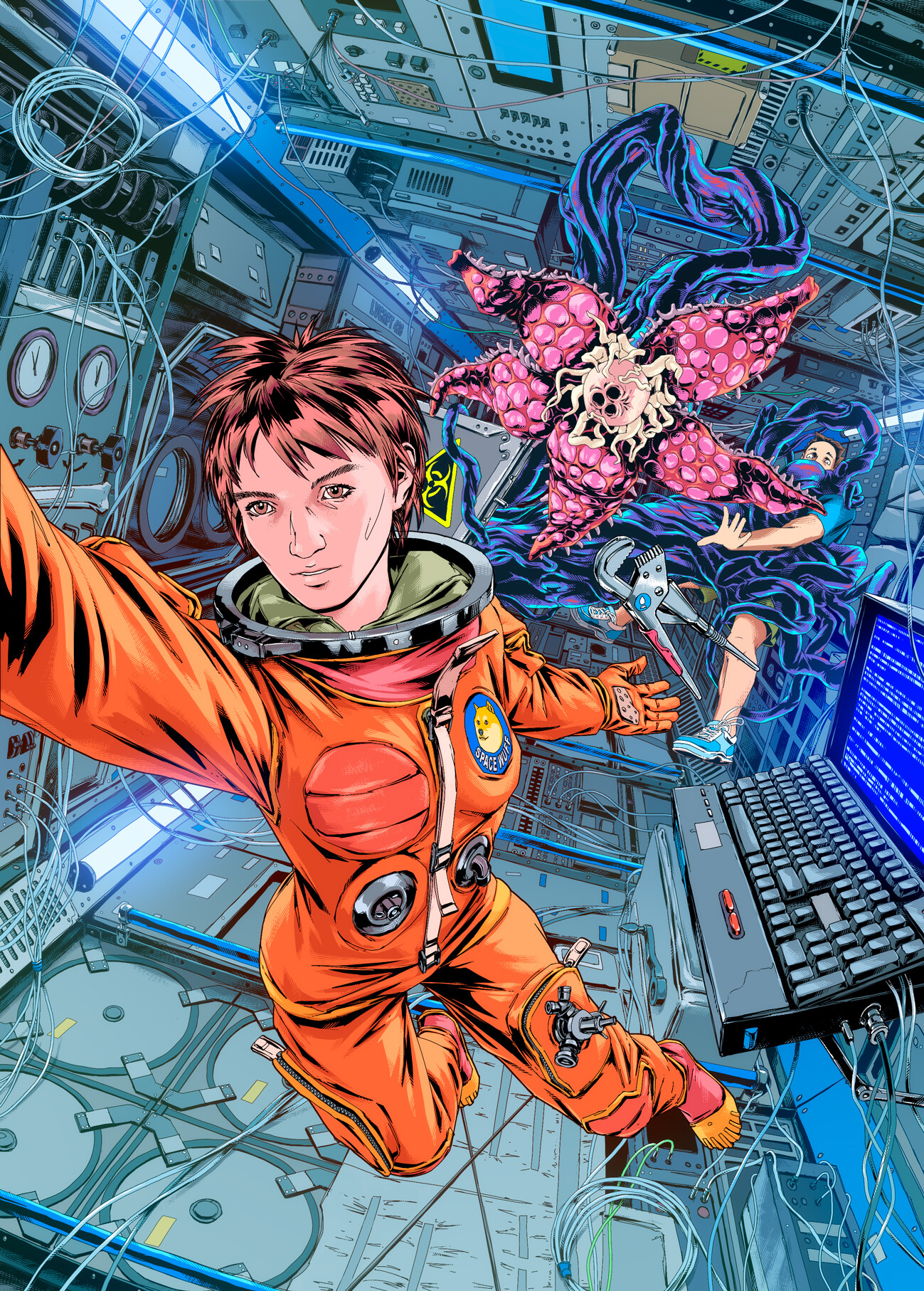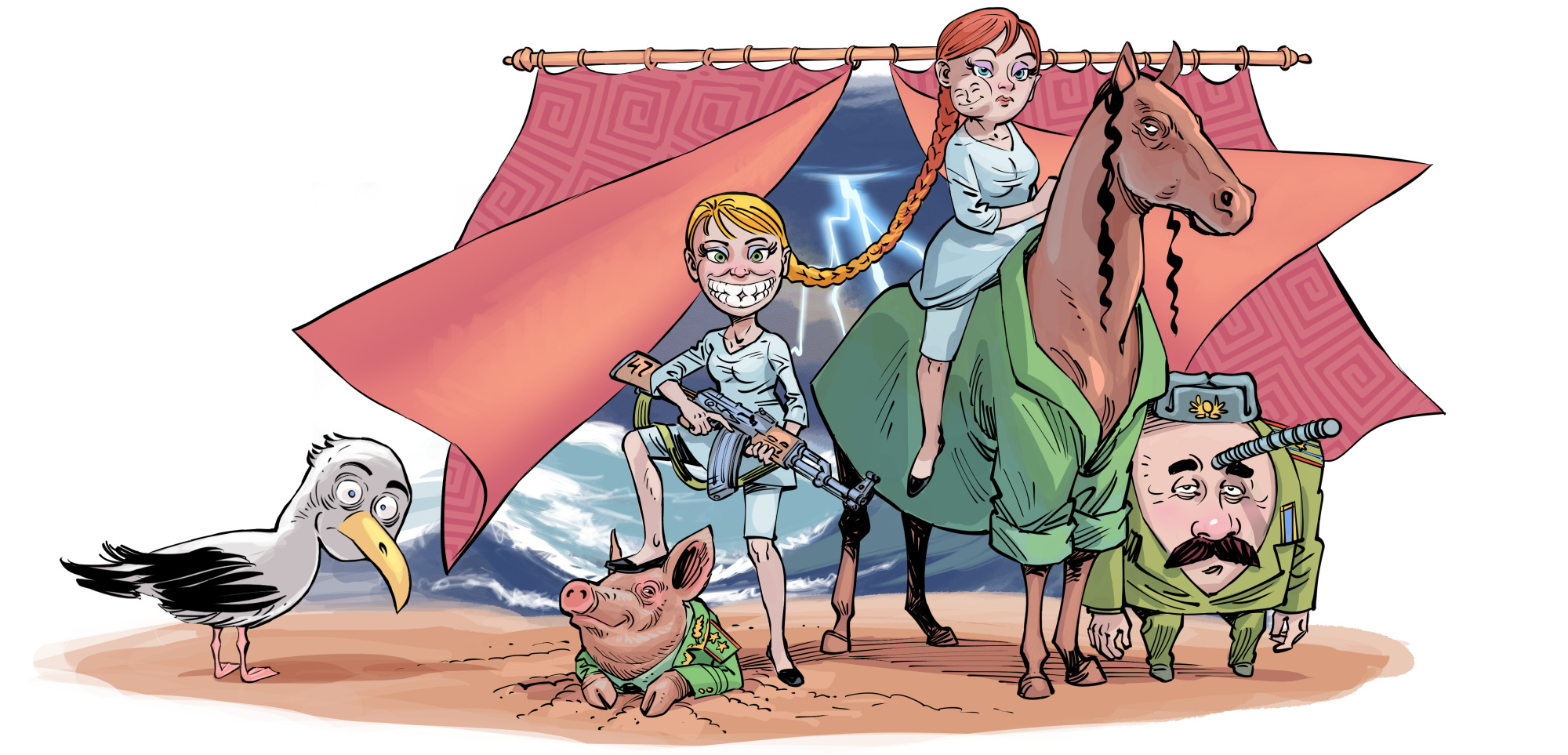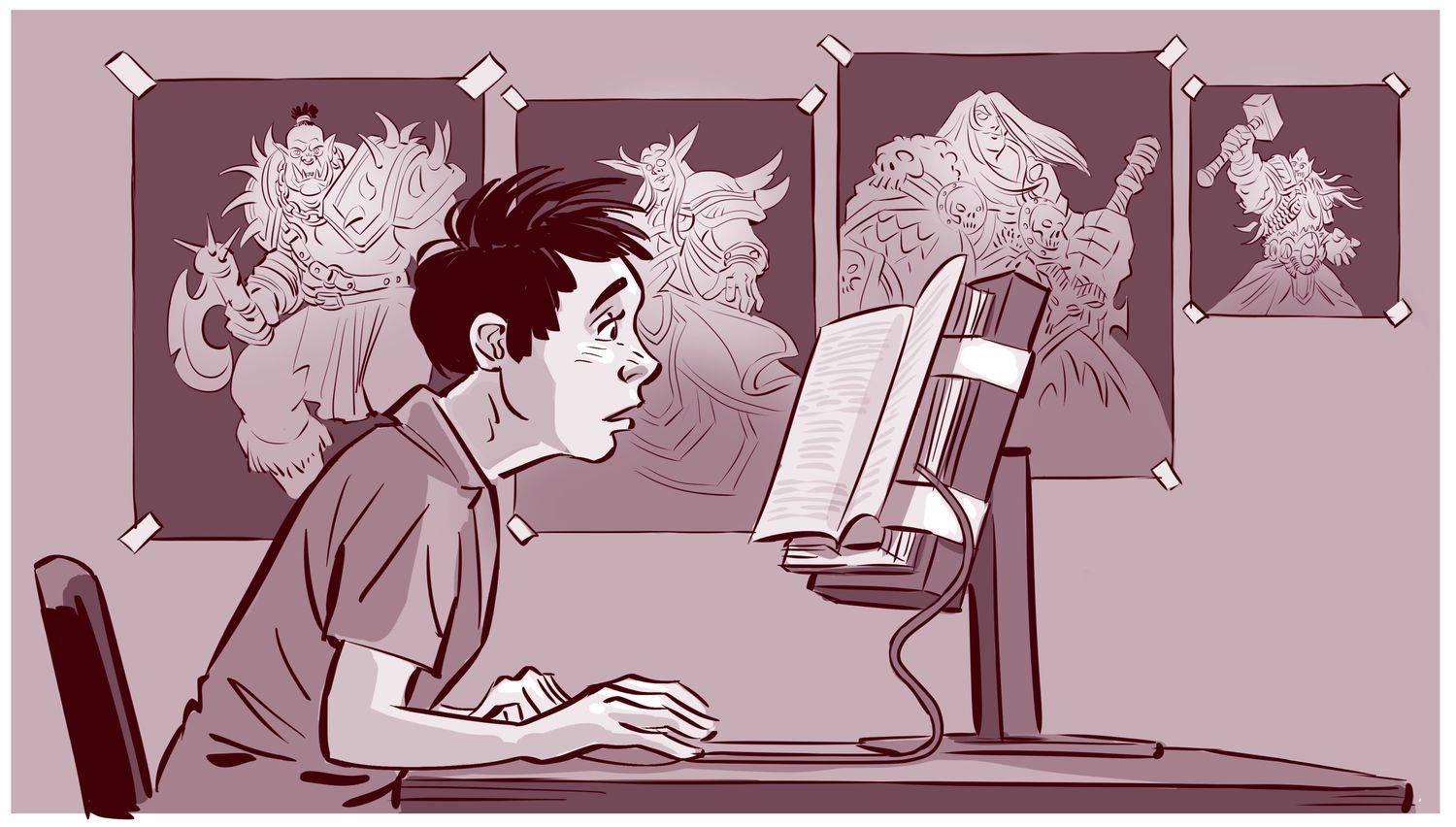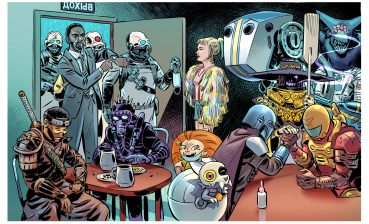Читаем отрывок из нового романа Роберта Сойера «Оппенгеймер. Альтернатива»
17291
11 минут на чтение
В издательстве Fanzon вышла новая книга Роберта Сойера, автора романа «Вспомни, что будет», лёгшего в основу одноимённого телесериала. Действие его нового романа разворачивается в альтернативной версии XX века, в которой Роберт Оппенгеймер, его коллеги по Манхэттенскому проекту и другие выдающиеся умы XX века объединяют усилия, чтобы спасти человечество от куда более жуткой угрозы, чем атомная бомба. Мы публикуем отрывок из самого начала, в котором ещё молодой и не подозревающий о своей дальнейшей судьбе Оппи знакомится с очаровательной Джин Тэтлок.
Пока Роберт Оппенгеймер и его команда по Манхэттенскому проекту бьются над созданием атомной бомбы, Эдвард Теллер мечтает о еще более разрушительном оружии, основанном на ядерном синтезе — механизме, который питает Солнце.
Исследования Теллера приводят к ужасающему открытию: к 2030 году Солнце выбросит свой внешний слой, уничтожив Землю.После бомбардировки Японии и конца войны команда Оппенгеймера, а также Альберт Эйнштейн и Вернер фон Браун объединяются — величайшие научные гении прошлого века начинают войну со временем, чтобы спасти наше будущее.Наполненный тщательными исследованиями и насыщенный реальными персонажами, роман «Оппенгеймер. Альтернатива» — это захватывающее дух приключение в реальной и альтернативной истории.Перевод Андрея Гришина.
Глава 1
1936
«Я должен кое-что объяснить насчет Оппи: примерно каждые пять лет у него случался личностный кризис; он серьезно менялся. Скажем, когда я знал его в Беркли, он был романтичным, радикально настроенным человеком богемного типа, вдумчивым ученым...»Роберт Р. Уилсон, американский физик
Удачи...
Эйнштейн как-то сказал, что Бог не играет в кости со вселенной, — но, с другой стороны, Бога вряд ли занимают мысли о том, как бы переспать с какой-нибудь барышней.
— Ну ладно, — буркнул Оппи и не спеша распрямился, поднимаясь с дивана. Конечно, он не мог просто подойти и представиться, но тут очень кстати вихрем пронеслась Мэри-Эллен, его квартирная хозяйка, облаченная в одно из своих сшитых из собственноручно расписанных батиков платьев, подметающих пол. Она то и дело устраивала вечеринки, часто посвящая их сбору средств в чью-то пользу. Сегодня деньги собирали для испанских республиканцев — или, может быть, для испанских националистов? Наверно, для хороших людей, но Оппи это было безразлично — он спустился из своей комнаты ради пончиков и выпивки, а не для того, чтобы кого-то поддержать.
— Мэри-Эллен, постойте. Не могли бы вы?..
— О, Роберт! Я очень рада, что вы решились оторваться от книг и присоединиться к нам! Но я вижу, ваш стакан пуст.
— Нет-нет, спасибо, пока не надо. Но если бы вы... — Он сдержанным жестом указал на пышногрудую молодую женщину, сидевшую у камина.
— Ах! — воскликнула Мэри-Эллен; её широкое лицо расплылось в улыбке. — Конечно! — И, взяв Оппи за руку, она потащила его через полную народом комнату. — Джин! — позвала она, и незнакомка подняла голову. — Это лучший из моих жильцов; о, Фред, не надо, вы же знаете, что вас я тоже люблю! Его зовут Роберт, он преподает физику. Роберт, Джин учится на врача. — Мэри-Эллен вдруг извлекла, словно ниоткуда, стул в стиле ар-деко и ловко усадила на него Роберта лицом к Джин. — А сейчас я подам вам выпивку!
— Значит, вы будущий врач? — сказал Оппи, улыбнувшись Джин.
— Да. Точнее, психиатр. — Голос Джин был теплым. Вблизи она показалась еще красивее, чем с другой стороны комнаты. — Я преклоняюсь перед Фрейдом, — продолжила она. — Вы знаете его работы?
Как удачно кость выпала! Шесть очков!
— Представьте себе, знаю. И даже знаком с Эрнестом Джонсом.
— Неужели?! — воскликнула Джин.
— Чистая правда. Мы познакомились в Кембридже в 1926 году. В то время Джонс, близкий друг Фрейда, был единственным в мире психоаналитиком, говорящим по-английски, и потому-то и стал главным пророком этого учения в англоязычном мире.
— Расскажите... Боже мой, расскажите мне всё, что вы знаете о нем.
Снова бабочкой подлетела Мэри-Эллен, вручила Оппи стакан с бурбоном, подмигнула и помчалась дальше.
— Ну, — начал Оппи, — его кабинет находился на Харли-стрит... — За разговором он продолжал присматриваться к её классически красивому лицу с прекрасной гладкой кожей, глазами поразительного изумрудного цвета, резко отличавшимися от его опаловых, и маленькой ямочкой на подбородке. Черные волосы девушки были коротко подстрижены. С виду она была лет на десять моложе его.
Они болтали почти час, легко переходя с темы на тему. Его восхищали её красота, казавшаяся неожиданно знакомой, и живой ум, но притом она оставалась неуловимой. Её настроение мгновенно менялось, она могла быть очень оживленной и шумной, а в следующий миг — печальной и хрупкой. И все же он слушал её внимательно, несмотря на стоявший в комнате шум, сливавшийся из множества разговоров чьей-то не очень талантливой, но одушевленной игры на пианино, и звона стаканов. Раз он даже вскинул руку и прервал её на полуслове.
— Моя семья, — рассказывала она, — переехала сюда из Массачусетса как раз перед катастрофой и...
— Вы попали в автомобильную аварию?
Она растерянно взглянула на него.
— Нет, я имею в виду катастрофу фондового рынка.
Оппи покачал головой.
— Биржевой крах 1929 года. Начало Великой депрессии.
— Ах, вот вы о чем... Ну да, конечно.
— Неужели вы не знаете? — непритворно удивилась Джин. — Где же вы были? — Ему вдруг захотелось, чтобы она добавила: «всю мою жизнь», но она закончила фразу неожиданным предположением: — Вы, наверное, родились с серебряной ложкой во рту.
— Не то чтобы... Но мой отец благополучно пережил этот период. — И он добавил, как будто это могло объяснить его легкое отношение к национальному бедствию: — Он тоже занимался инвестированием, но не в фондовую биржу, а по большей части в искусство.
Она снова склонила голову, свет фарфоровой настольной лампы лег под другим углом, и он неожиданно понял, где видел её лицо. Одной из любимых книг Оппи была «Цветы зла» Бодлера, которую он читал в оригинале. Абрис лица Джин, форма и размер её носа точь-в-точь походили на графическую иллюстрацию к душераздирающей Une Martyre из знаменитого издания 1917 года. Он мысленно напрягся, отбрасывая ассоциацию. Картинка была страшненькая: труп на смятой постели, отрубленная голова, красота, увядающая вместе с цветами в вазах, старый муж, скитающийся где-то в дальних краях...
Вечеринка подошла к концу, и Оппи, расправившийся уже с четырьмя дозами бурбона, настроился договориться с новой знакомой о свидании.
— Итак, мисс... — начал он.
— Тэтлок, — сказала она, и эти два слога ударили его, как пули.
— Вы... вы родственница Джона Тэтлока?
— Он мой отец.
— Джон Тэтлок? Медиевист из Беркли?
— Да, а что? Вы знакомы с ним?
«О да», — подумал Оппи. Джон Стронг Перри Тэтлок, специалист по Джеффри Чосеру, безусловный авторитет в ассоциации преподавателей Беркли, громогласно вещавший в столовой факультетского клуба, был ярым антисемитом. Впрочем, для Беркли это было в порядке вещей; когда Роберт попытался устроить туда своего студента Боба Сербера, заведующий кафедрой физики сказал, что одного еврея на его факультете вполне достаточно. Но... чёрт
возьми.
— А-а... — протянул Оппи; у него резануло под ложечкой. Он пока не назвал собеседнице своей фамилии. — Что ж, приятно было познакомиться, — скрывая досаду, сказал он, поднялся с изящного стула и вышел на лестницу, ведущую в его холостяцкую комнату.
Джин посетила и следующую вечеринку, которую устроила Мэри-Эллен, и ещё одну, оставаясь всё такой же очаровательной и притягательной. В конце концов Оппи набрался смелости и, попытавшись забыть о предубеждениях её отца, решился пригласить её на обед.
— И куда вы предлагаете пойти? — спросила она, и Оппи снова изумился. Значило ли это, что она заранее готова принять его предложение или, напротив, будет решать, достаточно ли фешенебельное заведение он предложит?
— Я... м-м-м... э-э...
— О, не ломайте голову, — улыбнулась она. — Вы любите острое?
— Даже очень.
— В Сан-Франциско есть такое место — кафе «Сочимилко». Может быть, знаете?
Он покачал головой.
— Вот и хорошо! Вдруг это место станет нашим? В субботу вечером? Или... может быть, суббота?..
До него не сразу дошло, что она имеет в виду его национальность и еврейские обычаи.
— Нет, суббота меня вполне устроит.
И они пошли туда. Кафе, название которого больше подошло бы для любимого им с детства юго-запада, нежели для Северной Калифорнии, где он теперь жил, оказалось плохонькой забегаловкой. Но это было совершенно неважно; Джин совершенно правильно отметила ещё при первом знакомстве, что он не придавал деньгам особого значения. С такой же готовностью он повел бы её в самый дорогой ресторан морепродуктов в районе верфей. Зато кабинки там оказались вполне подходящими для душевного разговора, carne adovada — в меру пикантным, а текила — крепкой и доброкачественной.
Оказалось, что Джин состоит в Коммунистической партии и пишет в её газету «Вестерн уоркер». Когда она заговорила об угнетенных и борьбе за свободу — эти темы сплошь и рядом обсуждали в университетском кампусе, но Оппи никогда не вслушивался в них, воспринимая эти разговоры как какой-то посторонний шум, — он поймал себя на том, что внимательно слушает, кивает и время от времени вставляет: «Да, да, да!»
Поздно ночью Оппи пешком провожал её домой. Пройдя квартал, она взяла его под руку. А войдя в подъезд небольшого дома, где она жила, они услышали музыку — кто-то из соседей слушал перед открытым окном новую джазовую композицию Бенни Гудмена «Слава любви». Там они остановились, Оппи привлек её к себе, наклонился и поцеловал впервые за всё время их знакомства, сначала легко и очень осторожно, а потом, когда она ответила, стал целовать её все более страстно и горячо.
С тех пор их встречи стали регулярными.
Несколько лет назад Оппенгеймер сделал в клубе любителей астрономии Калифорнийского технологического института доклад под названием «Звезды и атомные ядра»; он изучал крупнейшие и мельчайшие объекты, существующие в природе, но до встречи с Джин почти не замечал окружавший его человеческий мир.
И всё же он довольно скоро узнал и о том, что её внутренний свет неизменно омрачает тьма — её настроение прямо-таки скакало, ей часто снились кошмары, она была химерой — ангелом и демоном в одном лице; сама будущий психиатр, она давно уже постоянно наблюдалась у психиатра. Несмотря ни на что, он крепко полюбил её, а она, более подвластная чувствам, как высоким, так и низким, которые переполняли её дух, возможно, любила его еще
крепче.
Через несколько месяцев состоялась их помолвка... а потом Джин совершенно неожиданно разорвала её. «Я пока не готова, — сказала она. — Слишком рано». Впрочем, они продолжали встречаться, и он однажды набрался смелости и снова предложил ей стать его женой. Она согласилась, но спустя несколько недель снова передумала. Она уверяла, что любит его, но он заслуживает гораздо большего, лучшего. Роберт не смог переубедить её и, с разбитым сердцем, обратился за утешением к другим женщинам. Одной из них была Китти, миниатюрная соблазнительница, кокетливая лисичка, искусная наездница, способная (по крайней мере, так казалось) укротить любого жеребца. Она изрядно удивила его тем, что вскоре забеременела. И он исполнил долг порядочного человека — женился на ней.
Но в его сердце, в его мыслях всегда царила не Китти, а очаровательная, взбалмошная, противоречивая Джин Тэтлок, родственная душа, которую ему так и не удалось обрести.
возьми.
Статьи

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны
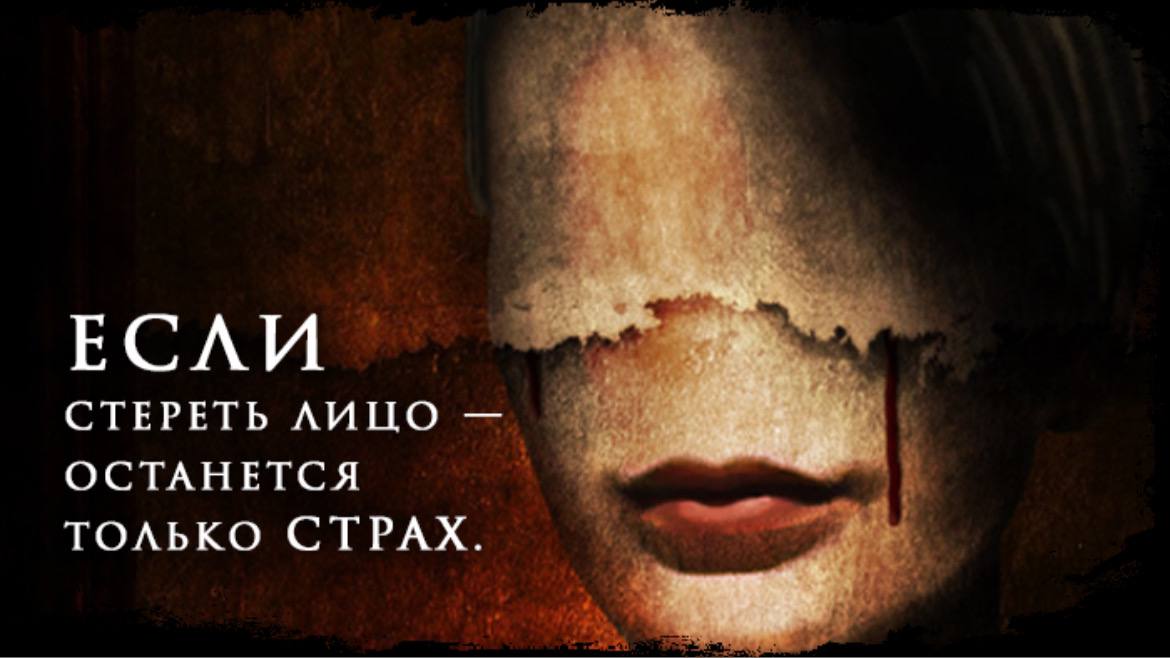
«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком
100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен
История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты
И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025
От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»
Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным
Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом
Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»
Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

«Как приручить дракона»: а что было в книгах?
Рассказываем про Беззубика и Иккинга, какими вы их не знали!
Показать ещё
Спецпроекты
Все спецпроекты
Все спецпроекты